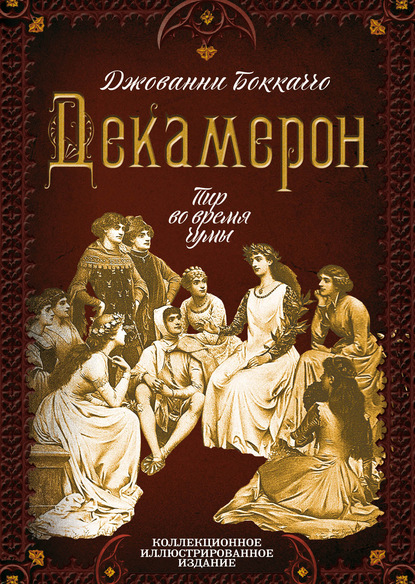 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Декамерон. Пир во время чумы
Мотив двух или трех ларцов, всегда связанный с идеей судьбы, несколько поднятый в своем значении в «Венецианском купце» Шекспира, встречается в разных сказочных приурочениях. Для источника Боккаччо важна более определенная схема: служилого человека, отпущенного без награды, потому что такова его судьба.
В «Awenturoso Ciciliano» некий рыцарь служит у английского короля и также считает себя обойденным его милостью, тогда как другие одарены без разбора. Следует эпизод с мулом, которого рыцарь убивает: так отомстил бы он его хозяину! Король прослышал об этом и, узнав, в чем дело, богато одаряет рыцаря. Эпизода с ларцами нет, он скорее выпал в оригинале повести, несколько скомканной, чем был введен Боккаччо. – Подобная же схема могла быть известна автору немецкого «Руодлиба»[132] и лишь разбиться в его изложении: Руодлиб служит верой и правдой нескольким господам, но ничего не заслужил у них; тогда он решается поискать счастья на чужбине, у «большого рыцаря», который, отпуская его от себя, предлагает ему на выбор: одарить его казной, либо мудрыми изречениями. Руодлиб выбирает последнее, но царь дает ему еще два серебряные, снаружи обмазанные тестом, коровая, наполненные золотом и разными драгоценностями, содержимого которых он не знает, но которые он должен вскрыть в присутствии матери и невесты. Короваи отвечают ларцам и, быть может, стояли прежде в связи с мотивом, что Руодлиб удалился, ничего не заслужив.
Идея «доли», затушеванная в «Avventuroso Ciciliano» и «Руодлибе», выступает ярко в повести «Katha-Сарит-Сагара»: в городе Лакшапуре жил царь Лакшадатта, всех щедро одарявший, и был у него слуга, по имени Labghadatta, день и ночь стоявший у ворот, с полосой кожи на бедрах, вместо одеяния, но царь ничего не давал ему, хотя видел его храбрость на охоте и в битве. На шестой год он ощутил к нему жалость: «Почему бы не дать ему чего-нибудь, но скрытно, чтобы испытать, искуплена ли его вина, и обратит ли на него свой лик счастливая доля или нет?» В присутствии всех он дружелюбно подозвал его к себе и велит ему произнести какоелибо свое изречение. Тот говорит: «Счастье всегда нисходит на человека состоятельного, как реки наполняют море, а бедняку не показывается и на глаза». В награду за это царь дает ему лимон, наполненный драгоценностями, о чем присутствующие сожалеют, полагая, что то – простой лимон. Какой-то нищий выпрашивает его у слуги, в обмен платья, и подносит царю, который удивлен и опечален, что вина бездольного еще не стерта. На следующий день повторяется та же сцена дара и обмена; так и в третий раз; на четвертый бездольный роняет лимон, драгоценности из него выкатились, а царь говорит: «Этой хитростью я хотел дознаться, взглянет ли на него счастье, или нет; теперь его вина стерта». И он одаряет и возвышает бедняка.
Если в индийской повести выбор из нескольких ларцов заменен рядом неудач с одним и тем же даром, то русская сказка возвращает нас к сцене Боккаччо, но с иным разрешением: Данило служит у царя, но ему ни в чем не везет, и дело у него не спорится. Взял царь, насыпал три бочки, одну – золотом, другую – углем, третью песком, и говорит Даниле: «Коли выберешь золото, быть тебе царем, коли уголь – ковалем, а если песок, то взаправду ты несчастный: бери себе коня и сбрую и уходи из моего царства». Данило выбрал себе бочку с песком.
Подобный народный рассказ мог быть источником новеллы Боккаччо; он не изменил его сути, но ее фаталистическое содержание служит ему примером щедрости или великодушия испанского короля, как в другом случае та же идея неизбежности судьбы получила у него своеобразное освещение: судьбы, обусловленной роковой красотою.
Мы имеем в виду прелестную новеллу об Алатиэль; ее имена и место действия указывают, может быть, на арабский Восток; приключения напоминают отчасти канву романа Ксенофонта Эфесского и одну сказку «1001-й ночи», там и здесь с сюжетом красавицы, Антии или Сирийки, подвергающейся на далеких путях и среди тысячи случайностей опасности потерять свою честь – и остающейся целомудренной. У Боккаччо остается лишь внешний вид, заверение целомудрия, видимость идет за суть, все дело в вере; и почему бы нет, по пословице, уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются? Это героическая повесть наизнанку, торжествует не добродетель, а нечто другое, чего мы не назовем порочностью: в нем слишком много наивного, бессознательного, невменяемого. Надо было сильно переработать тип невинной красавицы, преследуемой рядом злополучий, чтобы прийти к такому радикальному его превращению, но очень вероятно, что Боккаччо имел в виду не рассказы этого рода, а какой-нибудь другой, в котором роковое нецеломудрие было основной ситуацией. Такова повесть «Katha-Сарит-Сагара», которая могла дойти до Боккаччо в отражении какого-нибудь мусульманского пересказа. Самара, король видьядгаров, проклял свою дочь Анангапрабгу за то, что в самомнении своей красоты и юности она отказывалась от брака: она сойдет на землю, станет человеческим существом и никогда не будет счастлива в супружестве. Она родится под именем Анангарати, как дочь короля Магаварахи, и также обнаруживает неохоту к браку, чванясь своей красотой: ее мужем должен быть человек красивый, храбрый, обладающий каким-нибудь диковинным умением. Являются четыре соискателя: один – судра, чудесный ткач, второй – ваисья, понимающий язык всех зверей и птиц, третий – кшатрия, всех превосходящий умением владеть мечом, четвертый – брахман Дживадатта, некрасивый собою вследствие тяготеющего на нем проклятия (он полюбил дочь одного отшельника), поклонник богини Дурги, силой которой он оживляет мертвецов. Никто из них не нравится красавице, да и астролог объявляет, что она – видьядгара, проклятие которой кончится через три месяца, и ее брак совершится на небе. В означенный срок девушка действительно обмирает, и Дживадатта в отчаянии, что не в силах ее оживить, готов убить себя, когда является Дурга, останавливает его, вещает о доле Анангапрабги и дает ему меч, с помощью которого он станет переноситься по воздуху и будет непобедим. Дживадатта летит в царство отца Анагапрабги, побеждает его в бою и понуждает выдать за него дочь. Некоторое время он живет с ней счастливо, но затем ему захотелось вернуться на землю, в смертный мир, на что дальновидная жена соглашается лишь неохотно. По ее просьбе они останавливаются отдохнуть на горе; здесь начинаются любовные приключения Анангапрабги. Первое напоминает мотив, знакомый средневековой повести и народной, напр., сербской песне: влекомый роком, Дживадатта просит жену спеть что-нибудь; сам он заснул, а песня привлекает внимание короля Гаривары, охотившегося там и искавшего, где бы напиться. Он увлечен красавицей, она безумно влюбилась в него, сама открывается ему, велит взять волшебный меч мужа и побуждает к бегству, пока тот не проснулся. У нее явилась было мысль схватить своего милого и улететь с ним на небо, но ее предательство лишило ее знания, вспомнилось и проклятие отца, и она опечалилась. Король утешает ее: от судьбы не уйти, как от своей собственной тени. Она уезжает с ним, а муж, проснувшись, хватился ее и меча, загоревал, ищет на горе и в лесах, но напрасно. В одной деревне он встретил брахманку; она – вещая, потому что даже во сне ей не видится никто, кроме мужа, все мужчины ей братья, и она не отпускает ни одного гостя, не учествовав его. Она-то и говорит Дживадатге, что его жена увезена: такова ее судьба, что она покинет и короля и будет жить с другими. Эти слова вразумили Дживадатту: он оставил мысль о жене, начинает странствовать по святым местам и вести жизнь отшельника. – Между тем Анангапрабга убегает от Гаривары с учителем танцев, которого оставляет для молодого игрока, а у него ее отбивает его приятель, богатый купец Гираньягупта. Услышал о ее несравненной красоте царь Вирабаху, но не похитил ее, а остался в пределах честности. Когда Гираньягупта прожился, поехал торговать, чтобы поправить свои дела; в одном городе он знакомится с рыбацким атаманом Сагараварой и с ним и с женой садится на корабль: буря разбивает его, Гиранъягупту приняло купеческое судно, а рыбак посадил Анангапрабгу на доски, связанные веревкой, и доплыл с ней до своего города, где она и стала его женой. Но она уходит от него с одним кшатрией, а затем отдается королю Сарагаварману. Тут кончилось и проклятие, бывшее причиной того, что она, погнушавшаяся одним мужем, проявила такую страстность ко многим мужьям: она успокоилась с своим супругом, как на лоне моря успокаиваются реки.
В новелле Боккаччо нет вступительного эпизода с проклятием, объясняющим роковую долю красавицы, но идея судьбы выражена ясно: Памфило желает доказать своим рассказом, что ни одно человеческое желание не застраховано от случайностей судьбы, и говорит о «роковой красоте одной сарацинки, которой, по причине ее красоты, пришлось в какие-нибудь четыре года сыграть свадьбу до девяти раз»200. Алатиэль отправлена отцом, султаном Вавилонии, в замужество к королю дель Гарбо, но ее корабль разбит бурей, и она поочередно попадает в руки Периконе де Висальго, его брата, генуэзских корабельщиков, морейского принца, афинского герцога, сына константинопольского императора, султана Осбека, его приближенного Антигона, купца из Кипра – и наконец своего нареченного жениха, которого она заверила в своей девственности и с которым долгое время жила в веселии. На меня это ироническое заключение с следующей затем легкомысленной выходкой – об устах, не умаляющихся от поцелуя, – действует, как сознательный диссонанс, неожиданно разрешающий мелодию фатализма. Он наполняет новеллу об Алатиэль; нет проклятия отца, его заменила идея красоты, культ которой обновился с обновлением гуманистических интересов. Она – неотразима: Фьямметта, покинутая Панфило, видит в ней свое несчастье, Алатиэль – свой рок. Кто бы ни увидел ее, не может не влюбиться, не пожелать овладеть ею. Когда в конце рассказа, готовясь открыться служителю своего отца, Антигону, она говорит ему, что желал бы скорее умереть, чем вести жизнь, какую вела, она несомненно говорит от сердца, в полном сознании, что пережитое ею было и бедствием и позором. А между тем переживала она его как-то бессознательно, горюя и отдаваясь, чередуя слезы и примирения с судьбой. Ее любовник Периконе убит своим братом, Маратом, с целью овладеть ею; она много сетовала о том, а затем, привыкнув к Марату, забыла о Периконе, и ей начинает казаться, что все обстоит благополучно; сын константинопольского императора, Константин, похитил ее у афинского герцога; она оплакивает свое несчастье, но «затем, утешенная Константином, она, по примеру прошлого, начала находить удовольствие в том, что уготовила ей судьба». Она может показаться ветреной, живущей моментами наслаждения и короткими приливами неглубокого горя, но лишь так психологически понятая она и могла явиться безотчетной игрушкой судьбы, прирожденной ей с красотою, и фаталистический тип народной сказки – стать живым образом, симпатичным в своей человеческой слабости.
Это «очеловечение» типа мы склонны приписать художническому почину Боккаччо; именно желание определить характер этого почина и побудило нас сопоставить несколько новелл Боккаччо с другими, которые могли быть его источниками, но в большей части случаев служат лишь свидетельством, что схемы его новелл существовали в более ранних литературных и народных пересказах. Это лишает нас возможности усчитать значение его личного вклада, сознательного выбора и тех изменений, которые он счел нужным предпринять в содержании унаследованных сюжетов.
IV
Попробуем подойти к тому же вопросу с другой стороны: со стороны стиля.
Уже одно сравнение новеллы Боккаччо с предшествовавшим ему литературным рассказом обличает большую разницу: там все схематично, зачаточно в фразе и плане, здесь все развито, чувствуется стремление к полноте, нередко переходящей в излишество. Боккаччо видимо и сознательно выписывает новеллу, внося в ее обработку не только свой психологический опыт, но и неистощимый запас формул и оборотов, вычитанных у классиков. Можно сомневаться в состоятельности этого сочетания: иной раз цицероновский период, общее место софизма кажется не в ладу с содержанием и положениями рассказа; речь излишне расчленяется и изобилует риторическим повторением вопроса, антитезами; эпитет утомляет своей обязательностью, преобладанием превосходной степени над положительной: красивеишии, величаишии и т. д. Мы уже знаем, что эта несоразмерность стиля и содержания у Боккаччо древняя, начиная с «Филострато» и «Филоколо». Цель искупала средства: надо было поднять прозу новеллы до прав литературного рода, а где было найти для этого внешний стилистический материал, как не у классиков? Они были образцами изящного, на них воспитался культ «украшенного» слова, их приемы обязывали писателя, из них брали огульно, неразборчиво, закупленные поэзией звучной речи; они и полонили своей фразой и риторикой и воспитывали вкус к более свободному творчеству.
Защита ораторского и риторского искусства у Боккаччо в его «De Casibus»[133], вызванная панегириком Цицерону, переходит в похвалу нарядного, мерного слова (moderata) вообще. Дар слова – это то, что отличает нас от животных, орган человеческой мысли, науки, говорит он; но есть два рода речи: та, которой мы научаемся у кормилицы, простая, грубая, общая всем, и другая, которую бессознательно усваивают немногие уже в летах, украшенная, цветистая, связанная известными правилами. Какой же неразумный не предпочтет последнюю и не потщится очистить и сделать изящным орудие, служащее столь высоким целям? Не всегда же мы обращаемся лишь к слугам, чтобы они подали нам пищу, не все беседуем с крестьянином о сельских нуждах; обращаться с такою же речью к Творцу неприлично, да и в иных случаях неумелая речь приводила к нежеланной плачевной развязке, ибо говорящий не владел искусством слова, смотря по обстоятельствам, то сурового и колкого, то умиротворяющего, изящного и красивого или полного наставительности, поддержанного соответствующей дикцией – когда, например, надо умилостивить разгневанного властителя, развеселить печального, ободрить коснеющего, поддержать погрязшего в лени и сладострастии. Вот почему надлежит прилагать всякое старание к украшению речи; это не только требование необходимости, но и простого приличия: мы ведь не ограничиваемся тем, что защищаемся от холода и солнца крышей и стенами из дерна и тростника, а поручаем устройство наших жилищ ученым мастерам; ту же заботу обнаруживаем мы и в одежде, утвари, пище. Как же пренебречь нам речью, если только найдутся учителя? Она, прельщая слух, увлекает волю и услаждает ум. Как согласное созвучие струн, овладевая нашим духом, на первых порах как бы растворяет его своею сладостью, а затем собирается в один аккорд, так украшенная речь, воспринятая душою, вначале нежно бередит ее и затем захватывает всецело, и слушающие стоят изумленные, неподвижные, готовые отдаться говорящему.
Это, в сущности, похвалы ораторской риторике, но стилисты ранней поры Возрождения неразборчивы в своих литературных образцах, и проза «Декамерона», тщательно выработанная, указывает на такое смешение. Именно ее стилизация является одной из главных заслуг Боккаччо – хотя он видимо ее отрицается: защищая свои рассказы в введении к 4-му дню, он говорит, что писал их «не только народным флорентийским языком, в прозе и без заглавия, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем». «Без заглавия» передает «senza titolo»; это точно, но требует объяснения, ибо не выражает того, что имеет в виду.
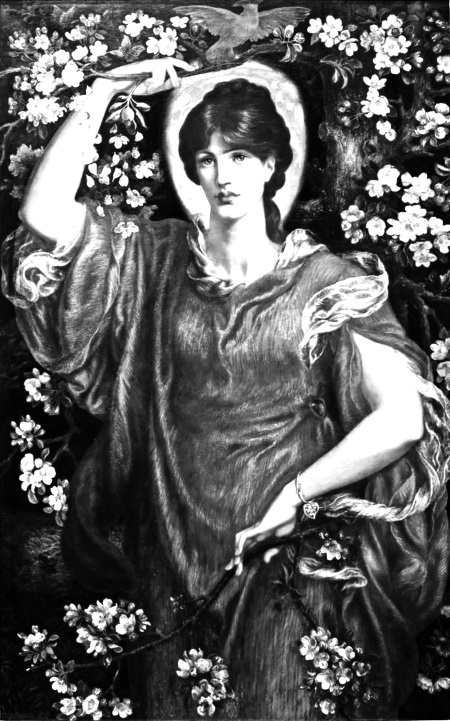
«Видение Фьяметты».
Художник – Данте Габриэль Росетти. 1878 г.
Фьямметта (ок. 1310 – между 1350–1355 гг.) – псевдоним, которым итальянский писатель Джованни Боккаччо именует в ряде произведений, в том числе в одноименной повести, свою возлюбленную. Как считается с XIX века, ее настоящее имя Мария д’Аквино, тем не менее, до сих пор не доказано, была ли Фьямметта вымышленным персонажем, результатом литературной традиции (таким тропом ее образ начали считать с 1930-40-х гг.), или все же реальным человеком.
«Декамерон», т. е. десятидневник, не заглавие, выражающее содержание труда, во всяком случае ничего не обещающее, скромное; это и хотел, по-видимому, сказать Боккаччо, играя двояким значением латинского titulus: слава, известность – и заглавие. Когда-то Фьямметта превозносила его стихи con sommo titolo (предисловие к «Тезеиде»), т. е. давала им высокую цену; о себе Боккаччо говорит в одном из юношеских писем, что он живет sine titulo, т. е. без славы, невидно; наоборот, выражение Фьяммеггы о своей книжке, что она обойдется без «красивых миниатюр или пышных заглавий», передает овидиевское «Nec titulus minio… notetur». Изгнанный из Рима отчасти за свою «Ars Amatoria», Овидий посылает туда свой труд: он печален, как его автор, не расписан; в этом смысле о нем и говорится далее: у тебя нет (расписного) титула, но тебя узнают по цвету; кто тебя отринет, тому скажи: Взгляни на мое заглавие, я не наставник любви; когда вступишь в мой дом, увидишь своих братьев: одни открыто показывают свои заглавия, три другие прячутся в темном углу. – Они только скрывают свои заглавия, будто стыдятся. Средневековые переписчики поняли sine titulo, как заглавие, надписывая им три книги Amorum; так обозначает их и Боккаччо в комментарии к «Божественной Комедии»: их можно так назвать, говорит он, потому что у них не один, цельный сюжет, от которого можно было бы отвлечь заглавие, а множество меняющихся от одного стиха к другому216. В этом смысле и «Декамерон» был бы книгой sine titulo.
Но это не все. Когда Боккаччо впервые выступил на защиту своего труда, он, очевидно, еще не стыдился его содержания, а заявлял лишь то, что говорил о себе Овидий: что на великие сюжеты он неспособен, пашет крохотное поле; в таком случае выражение senza titolo означало бы, что «Декамерон» написан «без претензий», не про тех, кто учился в Афинах, Болонье или Париже, не ддя изощривших свой ум в науках, а на потеху молодух, для которых «было бы глупо выискивать и стараться изобретать вещи очень изящные и полагать большие заботы на слишком размеренную речь»; надо было рассказывать пространно, имея в виду не учащихся, а тех, «которых едва хватает на прялку и веретено»219. И вместе с тем в «заключении» «Декамерона» Боккаччо нашел нужным оговорить именно свой стиль, изложение; он, стало быть, дорожил тем и другим, и мы вправе сомневаться в его искренности. Нам знакома его скромность, всегда подбитая сознанием, что у него есть право на зависть. Он писал без претензии, а «бурный и пожирающий вихрь зависти», долженствующий «поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев», поразил и его, всегда старавшегося «идти не то что полями, но и глубокими долинами». Но «одна лишь посредственность не знает зависти», и «потому да умолкнут хулители», оставив его при своем. Так говорят лишь о том, чему дают известную цену; цену относительную: «Декамерон» дописывался в ту пору, когда Боккаччо обуяла исключительная любовь к классической, латинской поэзии, и его итальянские произведения казались ему чем-то ребяческим и жалким. В этом, может быть, другое, на этот раз искреннее объяснение его собственной оценки «Декамерон»: без претензии; все вместе могли быть вызваны критикой, которую встретила его книга при своем появлении.
Как старательно трудился Боккаччо над стилем и композицией «Декамерона», иное развивая, иное выключая, в этом легко убедиться, сравнив, например, типы стариков в «Амето» и «Декамероне», И, 6, и две новеллы, дважды обработанные автором на расстоянии каких-нибудь десяти лет: в «Филоколо», кн. V, в эпизоде любовных бесед, которыми руководит Фьямметта, и в десятом дне «Декамерона», в новеллах 4-й и 5-й. Содержание первой пары рассказов, мотивы которых попали, вероятно, из какого-нибудь еврейского источника и в нашу «Палею», следующее: некий рыцарь тщетно ухаживает за женой другого; чтобы отвязаться от него, она ставит ему, как условие своей любви, требование, исполнение которого кажется ей невозможным: доставить ей в январе цветущий сад. Рыцарь исполняет это с помощью некроманта, и красавица смущена; выведав от нее причину ее печали, муж настаивает на том, чтоб она сдержала свое слово, и она идет; когда рыцарь узнает, что она явилась к нему лишь по желанию мужа, он, пораженный его великодушием, отказывается от своих прав, а некромант, в борьбе того же чувства, – от платы, выговоренной за его услугу. Кто из троих проявил более великодушия: муж, рыцарь или волшебник? Об этом долго рассуждают собеседники в «Филоколо»; в «Декамероне», где этому рассказу отвечает 5-я новелла 10-го дня, этот вопрос едва намечен. «Филоколо» помещает место действия в Испании; в «Декамероне» география другая: Фриули, и именно Удине; все действующие лица, кроме некроманта, названы по именам, в «Филоколо» только двое, и имена другие: рыцарь Тарольфо и некромант Тебано. Одно новое лицо введено в новеллу «Декамерона»: женщина, которая служит рыцарю для посылок к его даме и передает ему о ее желании – иметь чудесный сад; но это мелочная подробность, ничуть не обогащающая действия. Важнее выключение целого эпизода из новеллы в «Филоколо», занимающего почти ее половину. В «Декамероне» рыцарь посылает по всем краям света искать кого-нибудь, кто бы устроил ему требуемую диковинку; является волшебник и своими чарами создает сад. Все это рассказано в нескольких строках. В «Филоколо» сам рыцарь отправляется на поиски, объехал весь запад, очутился в Фессалии; однажды на заре он идет по полю, когда-то обагренному римскою кровью (фарсальское); пошел один, чтобы свободнее было предаваться грустным мыслям и видит маленького, сухопарого, бедно одетого человека, собирающего травы. Между ними завязывается разговор. «Разве ты не знаешь, где ты? – спрашивает Тарольфа незнакомец: – яростные духи могут здесь учинить тебе зло». – «Моя жизнь и честь в руках господа, да и смерть была бы мне мила». – «Почему так?» – допрашивает незнакомец. – «К чему говорить?» – нехотя отвечает рыцарь, не ожидая себе помощи, тем не менее он рассказывает, в чем дело, и слышит упрек, что по платью о людях не судят, что под рубищем скрываются порой сокровища знания. Незнакомец оказывается некромантом из Фив; согласившись с рыцарем за половину его состояния устроить ему сад, он едет с ним, – и мы присутствуем при сцене заклинаний и чар. Разоблачившись, босой, с волосами, распущенными по плечам, некромант выходит из города ночью; птицы и звери и люди спят, на деревьях не шелохнутся не успевшие еще опасть листья, влажный воздух дремлет, блестят одни лишь звезды, когда он приносит жертвы и творит молитвы Гекате, Церере, всем тем богам и силам, с помощью которых он совершил столько чудес, заставлял луну достигать полноты, чего другие добивались, ударяя в звонкие тазы, и т. д. Внезапно перед ним явилась колесница, влекомая двумя драконами: сев в нее, он мчится по всему свету: Африка и Крит, Пелий, Отрис, Осса и Монтеперо, Апеннины и Кавказ, берега Роны, Сены, Арно и царственного Тибра, Танаиса и Дуная мелькают перед нами, всюду он собирает злаки, коренья и камни; когда на третий день он вернулся назад, от аромата его чудодейственных зелий драконы помолодели, сбросив старую шкуру. Затем начинается волхвование: в котле, наполненном кровью, молоком и водою, варятся принесенные снадобья, всевозможные семена и злаки, иней, собранный в прошлые ночи, мясо страшных ведьм, оконечности жирного козла, щит черепахи, печень и мозги старого оленя. Чародей мешает все это веткой оливы, и она зазеленела, расцвела и покрылась черными ягодами; тогда он орошает чудесной жидкостью место, назначенное для сада, и посаженные там сухие тычины оделись зеленью, земля – травой и цветами. Чары исполнились.
Весь эпизод заклинания воспроизводит рассказ Овидия о чарах, которыми Медея возвращает юность старику Эзону; это почти перевод, кое-где с обмолвками, мотивами из Вергилия и Лукана и распространениями: подновлена география, вместо Tellus названа Церера, самое чудо с садом подсказано той подробностью чар, где от капель, упавших на землю, она зазеленела и покрылась цветами.
Автор «Декамерона» вышел из периода центона, сумел освободиться от игры в эрудицию, пожертвовав ею для экономии рассказа, в котором проделки некроманта грозили заслонить основной мотив. Мотив остался тот же, что и в «Филоколо»: борьба великодушия, хотя нельзя сказать, чтобы преимущество психологической обоснованности было на стороне нового пересказа. В «Филоколо», когда дама убедилась в появлении сада и рыцарь напомнил ей о ее обещании, она, не зная, как быть, говорит ему, лишь бы отделаться на первый раз, чтоб он подождал, пока муж выедет куда-нибудь из города; затем она открывается мужу, и тот, не пожурив ее, ибо знал ее чистоту, по долгом размышлении велит ей пойти и исполнить, что обещала. Тарольф естественно изумляется не тому, что она явилась к нему не одна, а тому, что муж, по-видимому, никуда не уезжал; оттого он и спрашивает ее: как могла она прийти к нему, не повздорив с мужем? – В «Декамероне» многие из этих подробностей затушеваны не к ясности дела и психологической мотивировки: исчезла та растерянность, которая заставила красавицу сослаться на возможный отъезд мужа, и рыцарь дивится лишь тому, что она пришла не одна. Когда она покаялась мужу, тот, убежденный в ее невинности, держит ей речь: как опасно внимать любовным посланиям, ибо сила слов, воспринимаемых слухом и проникающих в сердце, могущественнее, чем предполагают обыкновенно, и делает для любовников все возможным. Затем он велит ей идти, но его великодушие не цельное, оно умаляется софизмом и соображением, не имеющим ничего общего с жертвой: пойди, постарайся сохранить свою честь, а коли нет, отдайся телом, не душой; он не скрывает даже того, что его побуждает к его решению, между прочим, страх, как бы рыцарь, обманутый в своих ожиданиях, не побудил некроманта учинить с ними что-нибудь худое! – Очевидно, лишь склонность к изобилованию подробностями, к внешнему развитию повела Боккаччо к такому ухудшению типа.



