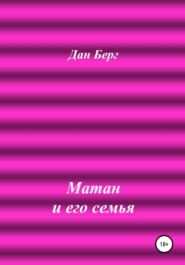 Полная версия
Полная версияМатан и его семья
***
Счастливо одаренный провидческим талантом, Матан с первых лет своей карьеры наперед знал, что предстоит ему слава в веках не только как знатока Писания, но и как мудрого лидера иудейской общины. Поэтому не случайно он загорелся желанием выразить словесно и письменно правила поведения народа, живущего в чужой и, зачастую, враждебной среде.
Матан отлично помнил, что Раби рекомендовал назначить его верховным судьей Нагардеи. Полагая мнение бывшего учителя абсолютно обоснованным, Матан систематически готовил себя к этой роли. Он справедливо умозаключил, мол, для яркого вступления в должность следует иметь багаж новых идей в сфере законов и суда.
Как иудею ужиться и уберечься в чужой стране, не растворяясь при этом в море большинства? Казалось бы, ответ очевиден: принимай власть местного повелителя и не бунтуй. А как сохранить лица необщее выраженье? Ведь сие для избранника Господа критически важно! И на это есть немудреный ответ: молись своему Богу и, не будь рядом помянуто, держи фигу в кармане.
Идею, которую просто понять умом, не всегда легко принять сердцем и тем более воплотить в жизнь. Требуется твердое и авторитетное повеление. Не уповая на внешнюю доступность осознания проблемы, Матан подошел к делу основательно, и ему удалось сформулировать правило лаконичное, но исчерпывающее: “Закон государства – закон”. Дополнительный вес постановлению придало его торжественное звучание на арамейском языке. Прогрессу идей нужны хорошие формулировки.
Вот, говорят, сытый голодного не разумеет. Верно, конечно, но Матан – исключение. Он не оставался глух к человеческому горю, к чужой нищете бывал участлив. Поскольку престиж его в городе стоял высоко, то он весьма результативно использовал свое влияние на власть имущих и стремился законодательным образом облегчить участь слабых мира сего.
Подтвердим примерами заслуги Матана. Он разрешил отдавать в рост деньги, принадлежавшие сиротам, если было у тех хоть сколько-нибудь за душой. Пусть небольшая, а прибавка. Он решительно укоротил аппетиты алчных до наживы торговцев, готовых разорять обездоленных соплеменников непомерными ценами на самые насущные товары. Так постановил Матан: прибыль продающего беднякам в розницу не превысит одной шестой цены, которую тот уплатил оптовику.
Теперь кинем взор на плоды законотворческой деятельности нашего героя. Матан потребовал установить в иудейском судопроизводстве принцип, согласно которому подозреваемый в преступлении считается безгрешным, покуда не будет доказана его вина, причем бремя доказательства лежит на истце. Более того, если доводы обвинения не выглядят достаточно убедительно, то, ввиду сомнения, обвинительный приговор не выносится. Матан утверждал, что оставить без последствий преступление, когда в уликах нет уверенности, есть меньшее зло, нежели наказать безвинного. Иными словами, большой риск малого греха предпочтительнее малого риска большого греха. А разумный риск есть похвальная сторона благоразумия.
Заметим, что подобные идеи высказывались словесно, вписывались в кодексы законов и применялись на практике не только иудеями, но и другими народами тоже. Естественно, может возникнуть докучливый вопрос о приоритете. Но стоит ли решать проблему пионерства, если предположить, что именитые и безымянные авторы руководствовались исключительно благими намерениями – справедливостью и здравым смыслом?
Свободный от соблазнов прекраснодушия, в высшей степени милосердный и человечный Матан никогда не упускал из виду возможности клеветы на доброту. Посему держался он непреклонного мнения: чем выше человек стоит в общественной иерархии, тем безупречнее должно быть его поведение. Применительно к себе он говорил: “Иудейский судья – вне подозрений”. Современники рассказывали, как однажды Матан не согласился рассматривать некое судебное дело, ибо имелись свидетели давнего рукопожатия между ним и подозреваемым – мало ли что люди могут подумать и сказать?
***
Основная цель нашего рассказа – представить события семейной жизни Матана. Тем не менее, для полноты образа и ради соблюдения хронологии, мы кратко показали его общественные деяния, пришедшиеся на то время, когда дети были малы, и отец мог не отвлекаться на домашнюю педагогику. Разумеется, дипломатические и государственные начинания Матана важны сами по себе и заслуживают внимания читателя.
Сыновья Матана немного подросли, и у него появился воспитательный интерес под управлением долга и любви. Воспоминания юных лет были для Матана не слишком радужными. Отец его, Гедалья, желал во что бы то ни стало добиться раннего превосходства сына над сверстниками. Шелкоторговец стремился доказать себе и людям, что в доме его растет будущий мудрец.
Вне всякого сомнения, Гедалья, во-первых, оказался прав в отношении исключительных дарований дитяти, а, во-вторых, сумел убедить всю Нагардею в безусловном умственном первенстве Матана. Беспощадная целеустремленность отца, увы, убавляла от ребячьих радостей. “В детстве у меня не было детства” – вздыхая, говорил себе Матан. Но ни за что на свете он не произнес бы эти слова вслух. Даже Эфрат не полагалось слышать их – ведь в них содержался смутный намек на непозволительные претензии к покойному родителю.
Еще до рождения сыновей, Матан мысленно поклялся растить детей так, чтобы долг не затемнял любовь. Но вот чудо: предрассудки Гедальи мистическим образом передались Матану, и юные годы Шуваля и Карми отчасти походили на детство их отца, хоть тот и не замечал этого. Педагог был уверен, что исполняет данное себе слово, и только через много лет обнаружил, как сильно он заблуждался.
Матан спешил поселить в головах малышей гуманитарные ценности – пусть бы опережали сверстников! Это была не слишком трудная задача, ведь другие отцы не торопились нагружать головы своих чад. Матан собирал вокруг себя семейство в полном составе и читал из Святых Книг страницы, казавшиеся ему доступными для детского и женского понимания. Затем задавал мальцам настойчивые вопросы: “Кто? Что? Когда? Сколько? Почему?” Если Эфрат замечала слезы на детских глазах, то старалась незаметно подсказать ответы малолеткам.
Обучал Матан сыновей и счету тоже. Он помнил задачи, которые ему задавал Гедалья. Торгашеское содержание их Матан решительно неприемлел и выдумывал примеры благородного свойства, что-нибудь из Писания. Вот образец урока.
– Скажи мне, Шуваль, сколько тучных коров видел во сне царь египетский? – спросил Матан.
– Семь, – с готовностью ответил Шуваль, довольный простотой вопроса.
– Верно, малыш, – похвалил отец, – а сейчас ты, Карми, вспомни-ка, сколько тощих коров приснилось фараону?
– Тоже семь! – бойко отрапортовал бутуз.
– Отлично, Карми! Пусть теперь твой старший брат скажет нам, сколько всего коров явилось во сне язычнику?
– Четырнадцать, кажется, – пролепетал Шуваль, глядя на мать, которая делала ему знаки из-за спины отца.
– Молодец, Шуваль, – порадовалась Эфрат и победительно взглянула на мужа.
– Напомни нам, Карми, – усложнил задачу Матан, – что сделали тощие коровы с тучными?
– Тощие съели тучных! – выпалил малец.
– И сколько же коров осталось, Шуваль?
– Это просто, отец, – небрежно бросил Шуваль, – осталось семь!
– Результат верный, но как ты пришел к нему, сын?
– Я из четырнадцати вычел семь! – гордо заявил Шуваль.
– Неплохо, – поощрил Матан, – а ты, Карми, как бы ты стал рассуждать?
– Я думаю, – по-взрослому глубокомысленно заметил Карми, – что коли тучные коровы съедены, то остались только тощие, а их с самого начала было семь!
– Молодец, сынок! – воскликнул Матан и обнял и расцеловал Карми.
– Вот и неверно! – ревниво и упрямо закричал Шуваль, – осталось не семь тощих коров, а семь тучных коров!
– Почему? – удивилась Эфрат.
– Тощие коровы съели так много, что сами стали тучными! – ответил Шуваль.
– Очень интересная мысль, – сказал Матан, погладив Шуваля по голове, – я вынесу ее на суд своих учеников!
***
Разумеется, никому не приходило в голову упрекать Матана в недостатке отцовских чувств. Наоборот! Отец любил старшего и обожал младшего.
В молодые годы Матан частенько совершал вояжи в столичные города Бишапур, Истахар, Шираз. Он стремился завязать полезные знакомства с высокими чинами и с самим персидским царем. Ниже мы расскажем об успехах его искательства. Здесь же заметим, что из каждой поездки он обязательно привозил подарки сыновьям – нечто такое, чего не сыскать в иудейской Нагардее.
Чем порадовать мальчишек от двух до пяти? Конечно, игрушечными военными атрибутами! Пусть мечтают о героизме, думают о победах, приучают глаза и руки к оружию. Как-то привез Матан деревянных боевых коней на колесиках, другой раз – детские мечи и щиты, в точности как у римских легионеров, но жемчужиной отцовской щедрости стали луки и полные стрел колчаны.
“У войны не детское лицо!” – говаривала Эфрат, глядя на подарки детям. “Пусть так, – отвечал Матан, – зато погляди, как радуются наши отпрыски! В игре детей смысл глубокий, а отнять игру у ребенка – не пустяк!” И вправду, играли малыши увлеченно: покоряли целые легионы римлян, громили персов, осаждали и завоевывали города, освобождали Иерусалим. Маленький Карми во всем следовал за старшим братом Шувалем. Излишне говорить, что все без исключения подарки делались непременно в двух экземплярах.
7. Дочери
Отцовство Матана началось обнадеживающе счастливо – родился сын. Казалось бы, непредубежденный родитель непременно захочет дочь вторым дитем. Правильный мир состоит из приблизительно равного количества мужчин и женщин, а семья – это мир в миниатюре, и естественно желать, чтобы он тоже был правильным. Но Матан вновь мечтал о сыне. Выходит, наш герой – предубежденный родитель? Разумеется, нет! Красивая мечта в умной голове имеет высокую цену.
Многодумный Матан глубоко понимал центральные воззрения своей веры, а половой вопрос – один из важнейших в ней. Вот, пишут, якобы люди рождаются равными. Допустим, это верно. Но по мере превращения ребенка во взрослого, среда и опыт увеличивают ценность человека, создавая, так сказать, прибавочную стоимость. Прибавка сия для разных полов далеко не одинакова.
Неспроста Матан вожделел сыновей. Еще до него мудрецы раскрыли тайну прибавочной стоимости мужчин и женщин. Если принять утверждение, что в сотворении мужчины воплощена некая цель, то женщину мы должны рассматривать не более как средство достижения цели. Не правда ли, непреодолимо велика разница в значимости полов?
Дочь для отца – неокупаемая забота. Пока малолетка, одним лишь видом своим она искушает возвышенных духом мужчин. Юница, коли не доглядишь, пристанет к берегу распутства. Женою став, не всегда успешно воюет с соблазном прелюбодеяния. Старуха, порой, превращается в ведьму.
Мать, однако, смотрит на дело иначе. Ей нужны дочери. Вспомним, например, родительницу Матана. Она сердилась на мужа своего Гедалью, покуда жив был, за пренебрежение дочерьми. Не станем ее осуждать слишком резко, все-таки она удостоилась чести называться женою богача и филантропа, к тому же давшего жизнь мудрецу.
Вот и Эфрат, произведя на свет двух сыновей, рассудила, мол, хватит “рожать для нас”, пришло время “рожать для себя”. Другими словами, она вознамерилась заиметь дочерей. Тут у непросвещенного читателя может возникнуть недоумение: а как, собственно говоря, Эфрат может повлиять на конечный результат дела, имеющего, казалось бы, непредсказуемое начало? Чтобы разрешить затруднение столь интимного свойства, нам придется сделать краткий экскурс в научно-религиозную историю проблемы.
***
Вспомним из Писания эпизод, в котором праотец Яков и благодетель его Лаван делили овец и коз. Отвлечемся от содержания договора меж Библейскими персонажами и целиком сконцентрируемся на вопросе отличительных особенностей потомства.
Яков спаривал мелкий скот. Черные бараны покрывали черных овец. При этом Яков устроил дело таким образом (каким именно – сказано в Писании), что во время спаривания черные овцы видели в воде мнимо пестрое отражение своих черных партнеров. В результате рождались агнцы пестрой масти. Напрашивается вывод: вид потомства зависит от впечатления, получаемого женской особью в минуты совокупления.
Как известно, возможность повторения результата эксперимента является необходимым условием доказательства обоснованности сделанного предположения. К счастью для науки, Яков повторил опыт. Он стал спаривать белых коз с белыми козлами, при том что козы в момент кульминации видели мнимо пестрое отражение в воде покрывающих их белоцветных соучастников действа. В результате на свет появлялись пестрые козлята. Таким образом, вывод о том, что характерные черты будущего дитя зависят от картины, которую мать зрит во время полового акта, можно считать научно доказанным.
Мудрецы пошли дальше и распространили на людей заключенную в Книге Книг истину. Иначе говоря, они постановили, что пол новорожденного зависит от помыслов будущей матери во время соития.
О некоторых вещах, открывающихся мудрецам в результате упорного труда над изучением Писания, женщины осведомлены подсознательно и издревле практически применяют свои интуитивные догадки в супружеской жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что стоило Эфрат захотеть дочерей, как желание ее осуществлялось раз за разом в положенные природой сроки.
***
Появление деток в семье не охладило пыл общественной деятельности Матана. Ему, наконец-то, удалось завязать знакомство с персидским царем. До дружбы иудея с великим монархом дело не дошло, но тем не менее установившиеся контакты оказались полезными слабой и зависимой стороне.
Царю пришелся по вкусу центральный политический тезис Матана: “Закон государства – закон”. Монарх подумал, что не худо бы и другим вождям нетитульных наций, нашедших пристанище в его великой империи, брать пример с иудея Матана. Глядишь, меньше бунтовских голов пришлось бы рубить внутри страны. Заплечные мастера перековали бы топоры на мечи и влились в ряды воинов, обороняющих и расширяющих империю.
Царь высоко ценил ум и образованность Матана, любил вести долгие разговоры с благонамеренным, гладкоречивым, образцово лояльным собеседником. Монарх желал бы иметь Матана в числе своих визирей, но не торопился делать тому столь лестное предложение, ибо не был уверен в прямоте его помыслов. Владыка подозревал, что, в конечном счете, такой советник станет хитрить и стараться не столько в пользу трона, сколько ради своих соплеменников. Нет в мире ничего труднее прямодушия.
Разумеется, монарх не ошибался, не доверяя Матану, но, будучи человеком образованным и либеральным для своего времени, не мог отказать себе в удовольствии духовного общения с мудрецом, хотя бы даже и иудейским. Теоретические беседы двух мужей приносили несомненные практические плоды. Так, например, царь отменил запрет на изучение Священного Писания, великодушно разрешил соблюдать субботу, издал закон о наказании за неправомерное причинение вреда синагогам.
Надо отдать должное принципиальности персидского императора – он бывал бескомпромиссно тверд в ситуациях, угрожавших благополучию государства. Скажем, когда в некоем городе (слава Богу, не в Нагардее!) восстали иудеи, царская рука не дрогнула, и монарх распорядился убить двенадцать тысяч бунтовщиков.
Не менее принципиально повел себя и Матан. Понимая свою роль как стратегическую, он пренебрег эмоциональными побуждениями сиюминутной тактики. Став на горло собственной песне, он решительно осудил иудейское восстание, нарушающее сформулированный им принцип о подчинении местным властям. Более того, Матан не стал объявлять пост в знак траура по убиенным. Эти мудрые шаги помогли ему сохранить добрые отношения с царем и укрепить взаимную любовь между иудеями и персами. Ошибочно мнение, будто принципиальность есть свойство людей непрактичных.
***
Вернемся к теме настоящей главы и возобновим разговор о дочерях. Итак, как мы уже знаем, Эфрат загорелась желанием “рожать для себя”. По-женски владея ключом к секрету формирования пола будущего ребенка, она умело воспользовалась своим интуитивным знанием, и вскоре в семье Матана появилась на свет старшая дочь. Девочку назвали Ципорой.
Через год после Ципоры родилась ее младшая сестра Оснат. “Средь белого дня у меня завелись ангелята!” – восторженно говорила себе Эфрат. Муж ее был более сдержан в нежных чувствах: “Совершенно не считаясь со мной, жена подарила мне двух дочек!”
Как и следовало ожидать, воспитание Ципоры и Оснат целиком легло на плечи Эфрат. Когда кто-либо спрашивал Матана о благополучии дочерей, он отвечал уклончиво: “Девочки помогают матери”. Истинный мудрец, скрупулезно следующий за духом и буквой Писания, не станет уделять чрезмерного внимания душевной стороне жизни представительниц слабого пола, ибо сие не лежит в плоскости его интересов. Вот и мы, вместе с Матаном, до поры до времени не будем интересоваться вещами суетными.
Четверо детей – два сына и две дочери – это немало для прилежной мамаши. Эфрат устала. Но что делать, разве можно обмануть природу? Не будем забывать, ведь говорим мы о давно минувших днях, о старине глубокой! Это нынче существует бесстыдное явление, называемое по-ученому “планирование семьи”. Прежде от подобного безбожия люди веры шарахались. Зато современная наука цинично стоит на службе родительского эгоизма.
Однако взглянем на дело с другой стороны. Уже выяснено нами, что не слишком ценимый мужской мудростью женский ум оказался горазд на управление полом зачинаемого младенца. Отчего не предположить, что тот же самый женский ум уже в древности бывал способен на решение еще одной сверхзадачи? При этом, не гневя ни Господа, ни мужа? Не вдаваясь в интимную сторону вопроса, отметим только, что практика опередила науку.
Итак, Эфрат сказала себе: “Хватит!” С тех пор Бог не давал нового прибавления в семью Матана. Впрочем, если Всевышний благословил семью двумя сыновьями и двумя дочерями, разве есть у супругов основание роптать на Небеса, дескать, мало нам?
8. Отворяй ворота
Воистину так: пришла беда – отворяй ворота! Безжалостное время обездолило супругов Матана и Эфрат, и пышущая счастьем семья превратилась в жалкий огрызок былого довольства. И кто же, кроме собственных детей, готов растерзать родительские сердца необратимым горем?
Шуваль и Карми росли вместе. Старший – заводила меж ними. Младший хоть и тянулся за братом, но и он вносил свою вполне осязаемую долю предприимчивости в играх и неуступчивости в потасовках. За справедливым решением ссор сыны бегом спешил к отцу. Поскольку версии спорящих сторон не сходились ни в одном пункте, Матан довольно скоро понял, что никакой родительский вердикт не имеет шансы на одобрение. Эфрат надоумила мужа не разбирать причины драк, а привлекать внимание ястребов к какой-либо нейтральной мирной теме. Идея, иной раз, работала.
Прошли годы, Шуваль и Карми выросли. Дружили меньше, ссорились чаще, природой данные характеры разнились резче. Одним из последних бастионов единства оставался присущий обоим отрокам дух оппозиции отцу с матерью. Возможно, это хорошо: оппозиция внутри семьи укрепляет ее стабильность.
***
Честолюбивого юношу, Шуваля непрестанно одолевала страсть отличиться и отличаться. Он мечтал отличиться каким-либо героическим деянием и чувствовал неукротимое желание во что бы то ни стало отличаться от прочих в своей серой среде. Возможно, что именно поэтому он ловил из каждых уст и выискивал в сохранившихся скупых записях сведения о когда-то давным-давно имевших место в земле Вавилонии криминальных похождениях авантюристов Йони и Шош.
И вот какое происшествие приключилось в старые времена. Два высокопоставленных в иудейской общине человека, оба престарелые судьи с прекрасной репутацией, были заподозрены в посягательстве на честь молодой замужней женщины по имени Шош. Разбор дела тайно поручили опытному дознавателю Даниэлю, которому помогал его юный племянник Акива.
В ходе деликатного расследования Даниэль выяснил весьма некомплиментарные вещи в отношении Шош. Оказалось, что сия особа изменяла мужу, а ее фаворит, молодой комиссионер Йони, занимался грабежом иностранных купцов. Вместе они, Йони и Шош, вступили в преступный сговор с целью сбежать с награбленными ценностями за границу и жить безбедно вне досягаемости от карающей длани закона.
Применяя интеллектуально изощренные методы дознания, Даниэль и Акива пролили свет на преступную деятельность стариков-судей, которые были подкуплены ловким комиссионером и за мзду вершили неправедный суд. Посягательства старцев на молодую красавицу Шош не подтвердились. Однако беда в том, что о репутации заботятся больше, чем о совести. Репутацию, как и деньги, легче заработать, чем сохранить.
Нарушители закона были разоблачены и понесли заслуженную кару. Блестяще завершенное дело выдвинуло Даниэля в пророки, а его племянник Акива успешно заменил дядюшку на посту дознавателя.
“Неординарные личности!” – с восторгом думал Шуваль о героях минувших дней. Ему страстно хотелось обладать аналитическим умом Даниэля, или способностями Акивы, или дерзостью Йони. Пример этих троих, каждого по-своему, вздымал волны честолюбия в сердце молодого Шуваля. Хотелось походить на кого-нибудь из них, выделиться из безликой массы. “Успех – моя цель, непохожесть – мое мерило!” – говорил себе созревший отпрыск нагардейского мудреца.
***
Вопреки надеждам и понятиям Матана, старший сын Шуваль избрал военную стезю. Он презрительно отверг корпение над Святым Писанием, поспешил покинуть родительский дом и вступил на службу в персидскую армию, где надеялся осуществить свои тщеславные мечты. “Это непостижимо! – вопиял Матан, – мой сын дикарь, безумец, могильщик семейной славы, он губит себя и уничтожает мой престиж!” Огорченная Эфрат упрекала мужа: “Зачем дарил детям мечи и стрелы? Говорила тебе: у войны – не детское лицо!”
Однако не состоялась военная карьера Шуваля. Высокие персидские командиры нашли благовидный предлог и удалили иудея из монаршего войска. Матан, разумеется, не стал хлопотать за Шуваля перед царем, надеясь, что, получив урок, вернется домой блудный сын, покается и встанет на прямой отцовский путь.
Увы, ожидания отца с матерью не сбылись. Шуваль не вернулся. Каков он теперь? В детстве отец привил ему умение думать. Жестокое войско выучило его искусству колоть, рубить, убивать. От природы он владел умением зажигать людей горячим словом. Жизнь обманула и разочаровала его. Что предпринял отринутый персидским воинством честолюбивый Шуваль? Он собрал вокруг себя ватагу отчаянных головорезов и заделался главой лихих разбойников. Насилием и грабежами на дорогах он насыщал авантюрный норов свой и теперь уж бесспорно отличался от серой массы соплеменников.
Шуваль скрывал свое происхождение из благородной семьи Матана, ибо небезосновательно полагал, что род его специфических занятий может послужить причиной изгнания отца с почетных должностей иудейской общины Нагардеи. Однако слухи ползли по городу, и праведные ученики ешивы начали с осторожным сомнением поглядывать на наставника. Когда же спрашивали Матана, как поживает его старший сын Шуваль, и что-то давненько не видать юношу, отцу приходилось напрягать наторелый годами упражнений ум и бойко изобретать убедительные ответы.
Сердце Шуваля не каменное. Соскучился разбойник по отцу с матерью и однажды темной ночью наведался в родительский дом. Эфрат заплакала от счастья и от горя, попыталась обнять и расцеловать дорогого гостя. Но тот ловко отстранился от матери, не доводя дело до скандально откровенного излияния чувств.
Матан оторвался от чтения Книги Книг и с деланно суровым лицом вышел навстречу сыну. Не будем забывать, он любил Шуваля, и радость встречи невольно светилась в отцовских глазах. Карми, разобравши из своей комнаты голос Шуваля, сбежал в окно, чтобы не встречаться с братом. Сестры Ципора и Оснат безмятежно спали и не слышали переполоха.
– Отец, мать, – я по-прежнему люблю вас, – с видимым усилием вымолвил вошедший Шуваль.
– О, Шуваль, делами своими ты терзаешь мое отцовское сердце! – горько воскликнул Матан.
– Отец страдает, но любит, – выпалила Эфрат, радуясь, что ей удалось погладить сына по руке, – как отец был счастлив, когда повитуха подала ему розовое тельце новорожденного младенца – тебя!
– Не помню такого! – попытался пошутить Шуваль.
– Сын, зачем ты сделал то, что сделал? Одумайся! Не станет нас с матерью, и ты будешь хозяином угодий, домов и прочего огромного достояния. И почему, наконец, не пожелал ты наследовать мою книжную мудрость, пост, престиж?



