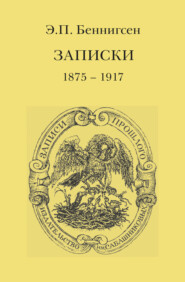скачать книгу бесплатно
Мать приезжала рожать в Москву, ибо в Гурьеве, в сущности, никакой акушерской помощи не было. Кроме родов младшего брата, с осложнениями прошла у нее и последняя беременность: в конце ее она оступилась и упала с крыльца. Сами роды прошли нормально, но последняя моя сестра, Екатерина, родилась всего с тремя пальцами на левой руке, и вообще вся левая сторона ее оказалась слабее развитой. Позднее врачи говорили, что именно последствием этого явилась и психическая ненормальность сестры, развившаяся к 20 годам.
Мясницкий дом, купленный бабушкой после продажи Рождественского, был расположен на углу Малого Харитоньевского переулка, против дома Бутенопа (позднее Липгардта). В те времена, кроме склада сельскохозяйственных машин последнего, в нем помещалось какое-то реальное училище, и я часто вглядывался в лица входящих в него реалистов, чтобы узнать Васю Фраловского, которого я очень любил…
В Мясницком доме родители прожили две зимы, по-видимому, 1882-1883 и 1886-1887 гг. По Мясницкой всегда шло большое движение, и из углового окна я любил смотреть на улицу. Главным интересом были похороны, и среди них особенно военные, с музыкой. Из других помню похороны И.С. Аксакова, гроб которого несли студенты и которого сопровождала, по тогдашним понятиям, громадная масса народа. Характерно было, однако, что для многих хоронили не известного писателя и журналиста, а директора одного из крупных банков. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, отмечу здесь, что газеты того времени были, в общем, весьма скучными. В Москве публиковались тогда расходившиеся по всей России «Московские Ведомости». Все знали, что их правому направлению сочувствует Александр III, и поэтому читали их, дабы быть в курсе того, что, как думали, предполагает делать правительство. Впрочем, представление это было ошибочным, и тот же Катков за свои правые, но подчас «вольнодумные» мысли не раз получал «предостережения».
Генерал Л.Л. Беннигсен, (гравюра неизв. художника).
Карл Федорович фон Мекк, дед автора, СПб, 1876 г.
Надежда Филаретовна фон Мекк, бабушка автора.
Беннигсен Павел Александрович, отец автора.
Беннигсен Александра Карловна, мать автора с сыном Леонтием, 1882 г.
Гурьево, имение Беннигсен.
Плещеево, имение Н.Ф. фон Мекк.
Людмила Карловна фон Мекк (Милочка, тетка автора). Ницца, 1880-е гг.
Николай Карлович фон Мекк, дядя автора.
Юлия фон Мекк и ее тетка Елизавета, Висбаден, 1900.
Беннигсен Эммануил Павлович с женой Екатериной Платоновной (рожд. Охотниковой) 1903 г.
Алексей Яковлевич Охотников, (неизв. художник, нач. XIX в.).
Елизавета Алексеевна, императрица, тайная возлюбленная А. Охотникова.
Владимир Владимирович Мекк (Воличка), внук Н.Ф. фон Мекк. Рис. В. Серова.
Варвара Геннадиевна Мекк (жена В.В. фон Мекка), 1907 г.
Беннигсен Адам Павловович, его сын Александр и жена Фанни Париж, 1930-е гг.
Беннигсен Георгий Павлович (брат, Юша) и его жена Ольга Васильевна Скарятина. Лондон, 1919 г.
Беннигсен Ксения Павловна (сестра милосердия), 1915 г.
Беннигсены Адам и Ольга, 1912 г. Тульская губерния, первый автомобиль.
Э.П. Беннигсен (справа) главноуполномоченный Красного Креста, 1915 г.
«Московские Ведомости» были порядочно скучны, но еще скучнее были «Русские Ведомости», издававшиеся группой профессоров, юристов и экономистов. Направление их было либеральное, но весьма и весьма умеренное, ибо говорить даже о конституции было абсолютно недопустимо. Мне кажется, что именно скучность этих двух газет и создала успех петербургского «Нового Времени». Издатель его А.С. Суворин был сам, несомненно, блестящим журналистом и сумел объединить вокруг себя группу других талантливых людей. «Новое Время» читали тогда все культурные люди, хотя и осуждавшие взгляды или, вернее, отсутствие взглядов у издателя этой газеты. Позднее говорили, что он принадлежит к партии К.В.Д. (куда ветер дует), и это была правда, но интереса газеты не уменьшало. Успех «Нового Времени» был превзойден позднее только «Русским Словом», издатель которого Сытин понял своевременно, что политические взгляды «Нового Времени» начали претить публике.
Все три первые газеты одно время получались в Гурьеве, но после смерти Каткова обе московские быстро отпали. Получались у нас и еженедельные журналы: «Неделя» Гайдебурова и иллюстрированные – «Нива», которую можно было найти тогда по всей России, и «Новь», а для меня выписывалось «Вокруг Света». «Новь», издававшаяся с большой по тому времени рекламой известным книготорговцем Вольфом, объявила, что выдаст в течение первого года издания ряд премий, в том числе какую-то картину «в роскошной рамке». В действительности эта рамка оказалась воспроизведенным олеографией бордюром, довольно жалкого вида, что вызвало большое недовольство подписчиков. Говорили, что кто-то предъявил даже Вольфу обвинение в мошенничестве. Олеографии картин выдавала также «Нива», и хотя знатоки искусства критиковали оба журнала за их подлаживание к вкусу масс, они много сделали для развития его в России. Никто не скажет, что «Свадебный пир» К.С. Маковского или пейзажи Клевера были крупными произведениями искусства, но забывали, что это были первые воспроизведения картин, попавшие в нашу деревню, где до того видали только иконы или портреты помещиков, работы большею частью доморощенных художников. Сознаюсь также, что когда мне позднее приходилось видеть где-нибудь в глуши, например, засиженный мухами «Свадебный Пир», у меня всегда появлялось милое воспоминание о далеком прошлом, которое и наложило свой отпечаток на все, с этой олеографией связанное. Уже взрослым встречал я жену Маковского, которую он изобразил в «Свадебном пире». Хотя она и сохранила тогда следы былой красоты, я все-таки пожалел об этих встречах, которые разрушили тот ореол чуть ли не неземной красоты, который у меня создался в связи с этой картиной.
Упомянув о «Ниве», не могу не отметить и общего культурного влияния этого журнала. Вообще, повторю еще раз: слишком часто забывают поговорку – «всякому овощу свое время», и в частности в отношении «Нивы» не оценивают всей тогдашней обстановки. Исторические романы Всеволода Соловьева и Салиаса – произведения, конечно, не первоклассные, но тогда ими зачитывались и с нетерпением ждали следующего номера журнала. Впрочем, культурное значение приложений к «Ниве», в которых, начиная с Достоевского, появился ряд собраний сочинений русских авторов, включая и такие, которые уже стало почти невозможно добыть, кажется, никто не отрицает.
Чтобы не возвращаться к печати этого времени упомяну еще про «толстые» журналы. Больше всего читали тогда «Русский Вестник» и «Вестник Европы», которые можно назвать параллелями «Московских» и «Русских Ведомостей». «Русский Вестник» издавал тот же Катков, что и «Московские Ведомости». Направление журнала было правое, и в нем, например, появились антисемитские романы Всеволода Крестовского «Тьма Египетская» и «Тамара Бендавид», но в нем печатал свои произведения и Л.Н. Толстой, и это привлекала читателей к журналу. У «Вестника Европы» круг читателей был более либеральный: они интересовались статьями издателя журнала Стасюлевича и К.К. Арсеньева, но журнал был сам по себе скучноват, уступая в живости «Русской Мысли», в которой в то время печатался Короленко и которая была умеренно социалистического направления. Со смертью Каткова «Русский Вестник», как и «Московские Ведомости», быстро сошел на нет.
Отец всегда интересовался историей, и у нас получались все три тогдашних исторических журнала: «Русский Архив», «Русская Старина» и «Исторический Вестник». «Архив» и «Старина» были сборниками исторических материалов, конечно, весьма различного достоинства. «Исторический же Вестник», издававшийся Сувориным, печатал также беллетристические произведения исторического содержания, начиная с того же Салиаса. Более живо были написаны и печатавшиеся в этом журнале более серьезные статьи, и неудивительно, что у него быстро создался крупный цикл читателей.
Возвращаясь после этого отступления, вызванного воспоминаниями о похоронах Аксакова, к Мясницкому дому бабушки, отмечу сперва его примитивность по теперешним понятиям. На весь дом была одна ванная комната без душа. Был проведен газ для освещения, но его, по-видимому, побаивались и им не пользовались. Были воздушные звонки, которые, однако, постоянно бездействовали, ибо мальчишки (в том числе и я) соблазнялись их свинцовыми трубками, и, несмотря на грозившие нам, если попадемся, строгие наказания, мы постоянно вырезывали из них кусочки для наших игр.
Построен был дом, как и большинство домов того времени, крайне бестолково, с большими парадными комнатами и немногочисленными и маленькими жилыми. Кроме двух спален в главном этаже, было их несколько в полуподвальном этаже и в мезонине, где помещались детские. Дом в общем был наряден, хотя обстановка была и не новая, перевезенная из Рождественского дома. Когда мы в первый раз в него въехали, еще заканчивалась его отделка, работали обойщики, а в зале паркетчики стлали очень красивый мозаичный пол. На стенах висел ряд картин, все иностранных художников, из коих у меня осталась в памяти эффектная картина Каульбаха «Встреча Марии Стюарт с Елизаветой». Вкус бабушки не отличался в области живописи от общего того времени, и это отражалось на картинах, украшавших ее жилище. Более интересны были бабушкины альбомы акварелей и рисунков итальянцев, начиная с Микель-Анджело и Корреджио и кончая Гуаренги. После смерти бабушки этот альбом достался моей матери, и тогда отец возил его Сомову, тогдашнему хранителю Эрмитажа, который исправил некоторые определения авторов (например, Гуаренги вместо Гверчини) и высказал предположение, что этот альбом был собран в середине 19-го века одним из известных в то время русских любителей живописи (к сожалению, фамилию его я забыл). Альбом этот был отдан отцом моему второму брату, Георгию, который, уходя в 1914 г. на войну, оставил его в Орле в ящике банка, и сохранился ли он, я не знаю. Более интересными казались мне, впрочем, два альбома акварелей русских художников, которых после смерти бабушки я больше не видел. Кажется, они перешли к дяде Саше. Составлены они были из рисунков большею частью передвижников, и давали, насколько я припоминаю, яркое представление о нашей живописи 1860 и 1870-х годов.
Я мало помню первую зиму в Мясницком доме, да и вообще затруднился бы распределить события между обеими зимовками в Москве. Жизнь родителей шла в ней больше в кругу родных. Посторонних знакомств в Первопрестольной у них было мало. Общественная жизнь в ней тогда, по-видимому, была довольно мало интересной. В центре ее стоял генерал-губернатор князь Долгоруков. Владимир Андреевич, как его все называли, пробыл на этом, более почетном, чем ответственном посту, более четверти века, и был очень популярным лицом, ибо от него зависели все милости, все же неприятности исходили от обер-полицмейстера, коим в то время был генерал Козлов. Полиция московская была при нем ни лучше, ни хуже, чем в других городах, и, если пристава «брали по чину» – претензий на нее не было. Про земство и городскую думу говорили мало, вероятно потому, что они еще не завоевали себе в общественной жизни видного места. Кажется в 1887 г. был уже городским головой Алексеев (двоюродный брат артиста Станиславского), начавший проявлять свою кипучую энергию. Город оставался, однако, все таким же полуазиатским, каким он был до нашествия Наполеона.
В Китай-городе я застал еще Старые ряды, вскоре снесенные к великому огорчению коренных москвичей, особенно же их лавочников. Надо признать, что в этих «калашных» и «суконных» рядах, темных и грязных, всегда была толпа, которой потом никогда не было в новых рядах. Со сносом старых рядов значительная часть их торговли перешла в «пассажи», особенно в Солодовниковский, и вообще в район Кузнецкого Моста и Петровки. В район последней ездили специально тогда в Петровский проезд прокатиться по первой в Москве асфальтовой мостовой. Освещение было газовое, а на окраинах частью и керосиновое. По вечерам бегали по улицам фонарщики, зажигавшие фонари, а по утрам они обходили их с лестницами и чистили. Первые электрические фонари (Яблочковские) появились около 1885 г. на Лубянской площади, и москвичи ездили посмотреть на этот «дивный» свет. Вода была проведена по всему городу, но канализации не было, и на улицах постоянно встречались бочки ассенизационного обоза, распространявшие вокруг себя далеко не приятные ароматы. Вода в Москве была тогда Мытищенская, хорошая, в то время еще не чрезмерно известковая, и москвичи хвастались ею перед петербуржцами.
Слабое воспоминание осталось у меня о выставке 1882 г., для маленького мальчика, каким я был, представлявшая мало интереса. Припоминаю я только вагоны санитарного поезда Московско-Рязанской ж.д., снаряженные для войны 1877 г. по идее дяди Володи.
В Москве меня взяли тогда в Большой театр на «Конька-Горбунка», уже тогда услаждавшего не первое поколение москвичей. В театре, если не ошибаюсь Лентовского, мне показали «80 дней вокруг света». Тогда это казалось фантастической быстротой, и мало кто верил в возможность действительного осуществления такого путешествия, как и вообще в осуществление других гениальных идей Жюль Верна. Почему-то ни разу не был я в Малом театре, но зато припоминаю какую-то комедию в новом тогда театре Корша. Наибольшее впечатление оставил, однако, у меня «Цыганский Барон» в какой-то немецкой оперетке, хотя я и далеко не все понял, что в ней говорилось.
Мясницкий дом явился для меня кладом по части книг. В Гурьеве было много журналов, начиная с конца 60-х годов, но книг было сравнительно мало, и чтение мое сводилось преимущественно к детской литературе – Жюль Верну, Куперу, Эмару, Майн-Риду и переложениям для юношества Вальтер Скотта. Увлекался я также сборником рассказов о последней турецкой войне, изданным князем Мещерским в 6 или 7 томах с альбомом большинства участников этой войны. Тогда эта война была еще почти что событием дня.
Когда мне было лет 7, мне подарили сочинения Пушкина, затем получил я Лермонтова, и так начала образовываться моя библиотека. Однако все это было ничто по сравнению с тем, что я нашел в Мясницком доме, где я часами проводил время в библиотеке, переходя от Шекспира и Шиллера к Моммсену (которого, впрочем, мало оценил) и к путешествиям. Почему-то у бабушки почти не было французских авторов, ни классиков, ни современных. Наоборот, их было много в Гурьеве, также как и английских томиков издания Таухница, бывших постоянным чтением матери. Чтением моим никто не руководил, и только было мне запрещено читать Золя и почему-то «Обрыв», считавшийся тогда сочинением безнравственным. Кстати отмечу, что бабушка Н.Ф. фон Мекк очень интересовалась личностью Людвига II Баварского, быть может, вследствие его увлечения музыкой, собирала все книги о нем, и когда после его смерти появился какой-то немецкий роман о нем в нескольких томах, то моя мать взялась перевести его на русский язык. Было это, впрочем, уже в Петербурге.
Еще до последней зимовки в Москве появился в Гурьеве первый мой гувернер, Рудольф Иванович Таль, только что окончивший тогда филологический факультет Дерптского университета, где его отец был обер-педелем. Типичный немец, добродушный, но недалекий. Он стал меня пичкать греческой мифологией и пересказами Илиады и Одиссеи по немецкому учебнику, который я тогда с трудом понимал. У всех в Гурьеве осталось о нем доброе воспоминание, хотя о наивности его рассказывали немало анекдотов. Так, в Москве он поверил, что в бочках ассенизационного обоза развозят пиво, и подивился – сколько его пьют в этом городе. В одном из Кремлевских соборов он спросил, настоящий ли зуб какого-то святого, показанный ему. Продержался он у нас, однако, не больше года, ибо мать обнаружила, что он часто бывает пьяненьким, напиваясь в одиночку в своей комнате. Заменил его Василий Михайлович Аннинский – тоже филолог, позднее бывший где-то, кажется, директором гимназии. С ним начались у меня серьезные занятия, которыми он сумел меня заинтересовать. Преподаватель он был хороший, и за одну зиму подготовил меня к экзаменам в среднее отделение приготовительного класса Училища Правоведения, соответствующее 2-му классу гимназии. Еще раньше я и мои три брата были записаны кандидатами в Пажи, но позднее, так как ученье давалось мне легко, родители решили отдать меня в Правоведение – считалось тогда, что для древних языков необходимы большие способности, чем для реальных наук.
С Мясницким домом связано у меня воспоминание о борьбе между семьями Мекк и Дервиз за господство над Московско-Рязанской ж.д. Спор возник из-за управляющего ею Ададурова, которого дядя Володя, как председатель правления, находил необходимым сменить. Ему удалось, однако, привлечь на свою сторону братьев Дервиз, сыновей компаньона деда. Началась подготовка к общему собранию акционеров «расписыванием» акций. Ни один акционер не мог иметь на этом собрании более 10 голосов, дававшихся 250 акциями. При этом, однако, уже 10 акций давали 1 голос, а 25 – два. Поэтому производилось распределение их по мелкому числу между фиктивными акционерами, чтобы получить больше голосов. У группы Мекк было меньше акций, чем у Дервиза, но она победила, благодаря 3000 акций Солодовникова, владельца Пассажа и миллионера. Был он человек крайне скупой, и рассказывали, например, что он не подписывался ни на одну газету, а ходил читать их в магазины Пассажа, которые были обязаны выписывать какую-нибудь из них. Если память мне не изменяет, он что-то взял за предоставление дяде своих голосов, хотя и ценил и способности, и честность дяди и, наоборот, не высоко ставил деловитость С.П. Дервиза. Для «расписания» акций были наняты с обеих сторон биржевые артели, члены которых явились фиктивными акционерами. Всего было предъявлено несколько тысяч голосов, но семья Мекк победила всего несколькими десятками голосов. Позднее подобной борьбы уже больше не было, особенно после того, как дядю Володю заменил дядя Коля, авторитет которого в железнодорожном мире установился очень быстро.
Приблизительно к этому времени относится образование дядей Володей пароходного общества «Ока», в которое вступили акционерами и мои родители. Через несколько лет отец поехал с дядей Володей в Нижний Новгород и захватил меня с собой. Оттуда для разнообразия он решил вернуться по Оке до Рязани, однако плохо рассчитал время года (был уже август), и на реке один перекат сменялся другим. Только через 15 часов после ухода из Нижнего, уже поздно ночью, добрались мы до Горбатова, где отец решил бросить пароход, и где нас направили на ночлег к какому-то местному купцу-старообрядцу. Хотя и довольно хмуро, он все же дал нам приют у себя, несмотря на то, что мы и явились к нему без всякой рекомендации, прямо с улицы. Единственное, о чем он нас попросил, это было, чтобы отец у него в доме не курил.
На следующий день через Гороховец мы выбрались в Москву поездом. «Ока» понемногу развилась в крупное предприятие, чему в значительной степени она была обязана А.А. Соколову, бывшему члену Тульской губернской земской управы, которого отец знал за дельного и честного человека и рекомендовал в управляющие «Оки». После его смерти у родителей не было того же доверия к его преемнику, ставленнику дяди Коли, и через некоторое время они вышли из дела, которое осложнилось с покупкой дядей крупного лесного имения «Фоминки», где-то около Оки. Распределение прибылей между имением и пароходством вызывало те же нарекания, что в Браилове между заводом и имением, и, чтобы не портить отношений с дядей Колей, родители предпочли уступить ему свою долю.
Кажется еще в 1881 г. отец ездил в Ессентуки лечить свой кишечник, оставив нас с бабушкой Беннигсен в Гурьеве. В 1887 г. мы снова поехали на Минеральные Воды, на этот раз всем семейством. Ехали мы с исключительными удобствами, в директорском вагоне Рязанской дороги, из «фонаря» которого я любовался всей местностью от Москвы до Кавказского предгорья. В Аксае отец купил осетра, из которого выбрали порядочно игры, а самого его сварили тут же в вагоне.
От Минеральных Вод железной дороги на группы еще не было, и ехали на них в колясках. Дорога по солнцу была для нас, детей, утомительной и тянулась долго с перепряжкой или кормежкой лошадей в колонии Каррас. В Ессентуках мы остановились в единственной в них тогда Казенной гостинице, где у родителей нашлись знакомые, но где мне было изрядно скучно. Гораздо веселее было зато в Кисловодске, где поселились мы в пансионе на даче известного художника Ярошенко. Сам ее владелец, артиллерийский полковник, был на службе в Петербурге, а дачей ведала его жена, внушавшая нам порядочный страх. Кроме нас жили на даче толстая старуха Соловьева, вдова известного историка и мать философа, и ее дочь, если не ошибаюсь, поэтесса Аллегро, молчаливая и, вообще, на мой детский взгляд, неинтересная девушка. В Кисловодске пребывание оживлялось поездками верхом и прогулками, связанными с купанием в речке Березовке, в Березовой Балке. Нашлись там у меня и товарищи по этим прогулкам, которых не хватало в Ессентуках.
Зимовка в Москве в 1887 г. закончилась в конце марта, когда в полную распутицу вся семья направилась в Гурьево. Я не помню другого такого долгого переезда; пришлось делать длинные объезды, ибо кое-где в низинах дорога была уже затоплена, и сани не могли в них пробраться. Когда через 9 часов пути мы добрались до Гурьева, то через Осетр еле перебрались, и через несколько часов лед на нем прошел.
Другая, не менее сложная, поездка в те годы была только раз, но летом, когда отец должен был ехать в Москву во время сильных дождей. До Лаптева он добрался, сидя местами на козлах, ибо ничтожные ручейки раздулись в потоки, и вода доходила в экипаже до сиденья. Добравшись поездом до Серпухова, отец должен был ехать дальше на лошадях до Подольска, ибо паводком снесло железнодорожный мост на Лопасне. По-видимому, на Московско-Курской железной дороге расчеты отверстий мостов и труб были сделаны неправильно или построены они были плохо, ибо за несколько лет до этого на этой же линии была размыта насыпь около станции Кукуевка, что вызвало прогремевшую тогда катастрофу с несколькими десятками жертв.
В Училище правоведения
Весной 1887 г. через месяц по возвращении в Гурьево, отец повез меня в Петербург сдавать экзамены в Правоведение. Все в этой поездке было для меня ново. Тогда как на Московско-Курской ж.д. от Лаптева до Москвы я знал по дороге почти каждый кустик, на Николаевской – и местность, и тип станций, и самые их названия были для меня необычными. В «Питере», как его часто тогда звали, поразило меня электрическое освещение всего Невского, торцовая на нем мостовая и величественность Невы.
Остановились мы в меблированных комнатах на Малой Садовой, в доме, где в 1881 г. помещалась лавка, из которой Кобозев[10 - Кобозев – подпольная кличка народовольца Юрия Богдановича, устроившего подкоп из снятой им лавки под Малую Садовую для закладки мины. Накануне убийства Александра II подкоп был обнаружен полицией. На другой день, 1 марта 1881 г., Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала. Богданович был впоследствии арестован и приговорен к смертной казне.] вел свой подкоп. Про революционное движение тогда писалось мало, но говорилось много, и мне показали, между прочим, и эту лавку. Когда через несколько дней мы были у моей тетки Погоржельской – сестры отца, в Саперном переулке, то там рассказывали про убийство Судейкина, совершенное в квартире над Погоржельскими. Никто из них выстрела не слышал, но потом им пришлось долго возиться с разными допросами об условиях жизни в доме.
Тетя Лиза Погоржельская мало напоминала моего отца. Было ей в это время несколько больше 40 лет, но впечатление она производила старше, благодаря своей полноте. Муж ее, Виктор Казимирович Погоржельский, служил раньше в Военном министерстве и шел в нем довольно хорошо, но оставил эту службу во время польского восстания 1863 г. Как поляк, он, наверное, сочувствовал повстанцам, а кроме того, участие в восстании ряда военных, вплоть до офицеров Генерального штаба, делало его положение в министерстве деликатным. После этого он стал заниматься ведением в Сенате юридических дел польских магнатов, и заработок его давал семье возможность жить, хотя и скромно, но прилично. Тетя была лет на 20, а то и больше, моложе его, и когда я его впервые увидел, он был уже грузным, малоподвижным стариком типичного польского типа. Через несколько лет он и умер. У них было четверо детей. Трое сыновей были в то время пажами, но старший, кажется, как раз тогда должен был перейти в Николаевский Кадетский Корпус за какой-то дерзкий ответ воспитателю.
Директором Николаевского корпуса был в то время генерал Дружинин, известный своим снисходительным отношением к молодежи. К нему собирались все изгнанные из других корпусов и благополучно кончали у него ученье. Большею частью шли от него в Николаевское Кавалерийское Училище, так называемую «Лошадиную Академию», и пользы от большинства из них стране было немного, но часть вырабатывалась в дельных людей, и за это следовало благодарить Дружинина.
Братья Погоржельские звезд с неба не хватали, но были людьми порядочными и работящими, и позднее стали хорошими офицерами: двое младших в Семеновском, а старший – в Харьковском Драгунском полку. Ко времени войны 1914 г. все они были уже в запасе, и двое младших пошли на нее командирами ополченских дружин, а по развертывания их в полки – и командирами их. Сестра их, Мария, миловидная, но незаметная девушка, была столь же ревностной католичкой, как и мать, и когда ей сделал предложение приват-доцент Блуменау, молодой, но дельный психиатр, она ему отказала только потому, что он был лютеранином. Позднее она осталась старой девой, и всю свою любовь отдала заботам о матери и бабушке, поселившейся окончательно у них, а позднее – племянникам, детям дяди Иосифа Беннигсена.
К экзаменам я был подготовлен хорошо, и сдал их без затруднений, так что последний из них, по арифметике, сдал даже до срока в квартире старшего воспитателя приготовительных классов Э.С. Шифферса. Это был единственный случай, что я с ним имел дело: когда осенью я явился в Училище, Шифферс уже умирал от чахотки, и я его увидел вновь только в гробу, когда мы ходили прощаться с ним. Он был братом известного шахматиста Эм. Ст. Шифферса – чемпиона России перед Чигориным, и сам тоже выступал на русских турнирах. Мои новые товарищи его очень любили и жалели, особенно, когда его заменил преподаватель греческого языка Бюриг, пользовавшийся общей антипатией.
Приготовительный класс Правоведения состоял из трех отделений, соответствовавших первым трем классам гимназии. Помещался он на Сергеевской, против Моховой, в небольшом домике, в котором, кроме трех классов и рекреационного зала, помещались еще дортуары для интернов, коих было большинство. Вошел я впервые в него с трепетом, но после первого удачного экзамена быстро освоился со школьной обстановкой, чему способствовало то, что почти сразу я встретил со стороны будущих моих товарищей доброе отношение. С пятью из них я потом прошел вместе девять классов, кончил с ними же большое Училище, и только позднее судьба разлучила нас.
Уже на втором или третьем экзамене я присоединился к хору товарищей, дразнившему старшего годами и самого сильного из них Радзивилла двустишием «Князь Радзивилл, князь крокодил», который решил меня за это проучить, но я стал сопротивляться, и только появление воспитателя спасло меня от трепки. Тем не менее, эта борьба сблизила меня сразу с классом, в который осенью я явился уже как свой.
В свободные дни мы ездили с отцом по окрестностям Петербурга: через Кронштадт в Петергоф и в Царское Село. Повидали мы и кое-что из достопримечательностей самого Петербурга. В то время перед выходом войск в лагеря, на Марсовом поле устраивались майские парады, и отец взял меня посмотреть один из них с трибун, устроенных вдоль Лебяжьего Канала. В середине их был императорский павильон и перед ним, впереди большой конной свиты, виднелась массивная фигура Александра III.
Это был единственный раз, что я его видел, да и то издали и сбоку, и впечатления на меня он не произвел, но если говорить о «последнем самодержце», то им был именно он, а не Николай II. Правил Россией несомненно он, а не его министры, и если в первые годы его царствования он слушал Победоносцева и читал Каткова и князя Мещерского, то скоро, наоборот, его стали слушать все его министры, хотя вначале они его сильно критиковали. Никто не утверждал, что он был человек большого ума или образования, но никто не отрицал у него твердых убеждений и воли, которых не доставало его отцу и сыну. Кроме того, Александр III был известен, как хороший семьянин и человек, беспощадный к денежным злоупотреблениям, что было другим его плюсом по сравнению с Александром II. Отмечу, впрочем, что подчас ответы Александра III бывали удачны, и передавались с хохотом, указывая, что он за словом в карман не лазил.
Кажется, в этот раз, возвращаясь из Петербурга, оказались мы в купе с красивым старым генерал-адъютантом, как оказалось – Тимашевым, бывшим министром внутренних дел. В памяти остался у меня его рассказ, как в Уфимской губернии, около его имения, крестьяне не хотели унавоживать землю: «Что ж мы станем Божью землю г….м пакостить».
После экзаменов мы заехали с отцом в Кемцы, где я впервые познакомился с северной полосой России, столь мне близкой и дорогой теперь. Старый деревянный, очень скромно меблированный дом, внизу под ним мелководная Кемка с многочисленными омутами, сосновые леса с тучами оводов, облеплявших лошадей, «бейшлоты» на озерах, питавших Вышневолоцкую систему – все это картины посейчас живо стоящие у меня в памяти.
В доме оставалось несколько воспоминаний о Карле Адамовиче – его золотое оружие, на котором я с почтением прочитал слова «за храбрость», и кубок с уланом на крышке, довольно мизерный, поднесенный ему офицерами Литовского полка при оставлении им командования. Увидел я также портрет прадеда Адама Леонтьевича, писанный каким-то неизвестным художником уже с мертвого, с каким-то рыбьими, без всякого выражения глазами. Карл Адамович был похоронен около Кемецкой церкви в склепе, где рядом с ним лежал его старший сын, умерший мальчиком.
Дядя Иосиф Карлович был точной копией Обломова. Воспитывался он в Александровском Лицее, где его товарищами по классу были будущие министры: А.П. Извольский и П.М. Кауфман-Туркестанский, так что и он мог бы сделать хорошую карьеру. Учился он хорошо, однако на выпускном экзамене отказался отвечать известному профессору государственного права Градовскому, мотивируя отказ тем, что Градовский мерзавец. Директор Лицея, Гартман, человек пользовавшийся общим уважением, вызвал моего отца для совместного убеждения дяди, что, однако, результатов не дало. Путем какой-то комбинации дядю все-таки выпустили, но по 2-му разряду. После этого он поступил вольноопределяющимся в Конный полк, но вскоре был забракован по причине крайней близорукости. Было это вскоре после введения всеобщей воинской повинности, и я припоминаю рассказы еще и через 10 лет о том, что дяде пришлось дежурить в конюшне и чистить свою лошадь; в 70-х годах эти, позднее обычные для вольноопределяющихся, вещи казались чем-то странным для «барина». После полка дядя поселился в Кемцах и понемногу уподобился Обломову. Позднее ему случалось по два-три дня не вылезать из халата, и все его интересы сводились к заботам о здоровье, которое, впрочем, никаких мотивов к беспокойству тогда не представляло.
В первые годы дядя еще бывал у соседей и, говорят, ухаживал за хорошенькой соседкой Поливановой, племянницей будущего военного министра, но не решился сделать ей предложение. Позднее он сошелся с горничной бабушки – женщиной, как говорят, и физически, и духовно весьма неинтересной, – от которой у него было трое сыновей, которых он узаконил после опубликования закона, облегчавшего это. Она вскоре после замужества с дядей умерла от чахотки, а дети попали под попечение Погоржельских. Все они были славные мальчики, и двое старший учились в Пажеском Корпусе (младший – слабенький, еще нигде не учился, и в 1919 г. умер в Ленинграде от тифа). Старший в 1917 г., за несколько дней до революции, был произведен из Пажеского Корпуса в офицеры в Лейб-драгуны, где приобрел себе быстро хорошую репутацию, и в гражданскую войну пропал без вести. Второй кончил только общие классы Корпуса, был добровольцем в армии Юденича, и затем жил в Ревеле (Таллинне), работая там шофером.
После лета 1887 г. я должен был к 1-му сентября явиться в Училище, но родители задержались на мое несчастье в Гурьеве, и я, носясь по холмам, изображая маневры с имевшейся в имении медной пушкой, простудился и свалился с воспалением легких. В Петербург мы попали только в середине октября, и то я еще был очень восприимчив к простудам, так что через две недели вновь захворал, и около Рождества у меня развилось 2-ое воспаление легких, чуть не сведшее меня в могилу. Мысль о смерти у меня мелькнула тогда, когда ночью, придя в себя, я увидел нагнувшееся над собой встревоженное лицо матери, но сразу же я снова впал в забытье.
Вышел я из дома только весной, в ростепель, и тут явился для меня вопрос об экзаменах. Та к как зимой я почти не был в классе, меня не могли допустить до них, и пришлось отцу взять меня из Училища и мне вновь явиться на экзамены со стороны. Сдал я их хуже, чем в первый раз, но все-таки благополучно, и на лето мы вновь собрались в Гурьеве. Это были годы моего увлечения оловянными солдатиками, которые в то время были одним из главных развлечений состоятельных мальчиков. Фабриковались они в Нюрнберге, и, надо признать, очень хорошо воспроизводили формы русских частей. В те годы в числе книг, которые я прямо глотал во время моих болезней, я перечитал и большую часть историй войн, начиная с Екатерининских. Михайловский-Данилевский и Богданович были в числе моих любимых авторов, и я пытался моими солдатиками воспроизводить некоторые из сражений, про которые я читал. Такое увлечение игрой в солдатики у мальчика едва ли кого-либо удивит; однако, видоизменения ее мне пришлось позднее встретить у взрослых. В Осло тогдашний русский поверенный в делах граф Коцебу-Пиллар-фон-Пильхау собрал громадную коллекцию этих оловянных солдатиков. Коллекционеры бывают всего и уверяли, что были, например, собиратели даже спичечных коробочек, но почтенный дипломат, вообще человек не мудреный, говорят, посвящал игре в эти солдатики все свои досуги. Позже в Каннах встретился я с генералом Гудим-Левковичем, который сам изготовлял солдатиков, тоже металлических, но более крупных, чем Нюрнбергские. Он сам раскрашивал их в формы частей русской армии и устроил небольшой их музей, в котором собрал и кое-какие другие реликвии, например, купленную им в Цюрихе гренадерку русского солдата, убитого в бою под этим городом в 1799 г.
Две недели, проведенные в Среднем отделении, меня только познакомили с приготовительными классами, но сойтись с товарищами я ещё не смог. После болезни отец привел меня в Училище изрядно обросшим, и хотя через два часа меня уже обстригли, товарищи успели меня окрестить «папуасом» – кличка, под которой я и ходил два года. У меня осталось об этих классах милое воспоминание – и о воспитателях, и о товарищах. Это было до известной степени продолжением семейной жизни, с неизбежными шалостями и нарушениями порядка, но в которых еще ничего нехорошего не было.
Познакомился я тогда с классной жизнью и, хотя и отстал в уроках от своих товарищей, быстро их нагнал. Вообще три первые года моей школьной жизни, когда я пропускал много уроков, меня убедили, что громадное большинство учеников способно быстро нагонять пропущенное, но что подчас бывают у всех небольшие заминки, в которых им необходима помощь, которую они, однако, иногда не в состоянии найти в школе. У меня за эти годы было три таких пункта, в которых частный репетитор мне помог, но, в сущности, было бы необходимо, чтобы такие репетиторы были при самих учебных заведениях, ибо, особенно сейчас, мало кто из детей находится в столь благоприятных условиях, как я тогда. Часто из-за каких-нибудь подобных мелочей молодежь теряет лишний год, и не принимается во внимание, что эта потеря отражается и на всем государстве. Лично я после двух-трех дополнительных часов знал эти детали на зубок (одна из них, например, была такая несложная вещь, как разложение многочлена) и думаю, что и у всех почти учеников бывали аналогичные случаи.
Осенью 1888 г. отец повез меня в Ялту, ибо врачи посоветовали не везти меня сразу в Петербург на его сырость и туманы. Об этой поездке у меня осталось чудное воспоминание. Несколько дней провели мы в Севастополе, обороной которого я увлекался и герои которой, начиная от адмиралов и до матроса Кошки, вырисовывались здесь предо мной в той обстановке, в которой они дрались и умирали. Малахов курган, бывший еще в той обстановке, в которой его оставила война, и Братское Кладбище – эти два контраста, и сейчас ярко стоят у меня в памяти. Погода была чудная и все наши поездки по окрестностям удались. В Ялту мы поехали на лошадях с ночевкой в Байдарских Воротах, но, увы, знаменитого восхода солнца мы не видали, ибо все внизу было затянуто облаками.
Ялта была тогда еще в очень примитивном виде, и кроме двух гостиниц – «Россия» и «Франция» (в которой мы пробыли два дня, пока не устроились в каких-то меблированных комнатах), крупных зданий в ней не было. Из развлечений помню малороссийскую труппу, кажется, Кропивницкого, в которой участвовала знаменитая Заньковецкая. Мы с отцом несколько раз были на этих спектаклях, и позднее я часто жалел, что мне вновь не пришлось видеть этих прелестных в их наивности и столь живо исполненных пьес.
Из Ялты мы проехали как-то в Алупку, где ночевали в какой-то сакле среди скал и поужинали татарской едой. У меня осталось воспоминание об Алупке, – не знаю, правильно ли, – как о самом красивом месте южного побережья Крыма.
В другой раз проехали мы в Гурзуф, где в то время находился дядя Володя. Гурзуф принадлежал бывшему тогда миллионером железнодорожному подрядчику П.И. Губонину, которого я там и видел гуляющим в парке. Петр Ионович, ходивший, как и ранее, в поддевке, был тогда одной из всероссийских знаменитостей и отзывы о нем были положительными. В Гурзуфе, где все удивлялись построенным им гостиницам, к каждому этажу коих можно было подъезжать в экипаже, Губонин любил принимать важных сановников и при отъезде их приказывал не брать с них денег за прожитье. Финансистом он оказался, однако, плохим, и когда через несколько лет умер, оставил семью почти без средств.
Вернулись мы из Крыма в Плещеево, где нас поджидала мать с братьями и сестрами. Через день или два вернувшийся из Москвы отец привез известие о крушении царского поезда около станции Борки. О причинах его имелись две версии: официальная, установленная особой комиссией при участии известного юриста Кони, указывала на непрочность пути и чрезмерную быстроту тяжелого царского поезда. Говорили, что поезд опаздывал в Харьков, и Александр III приказал нагнать опоздание. Говорили, также, что государь поднял лично кусок гнилой шпалы. Однако, наряду с этим, читал я про то, что катастрофа была последствием взрыва на паровозе бомбы, подложенной туда кочегаром-революционером. Где правда, я и посейчас не знаю.
Когда мы через несколько дней приехали в Петербург, отец пошел к своему старому портному «Ганри», ставшему за эти годы портным Александра III. Раньше все царское семейство шило штатское платье у «Тедески» – итальянца, славившегося как лучший портной города. Однако как-то в Дании Александр на ком-то из своей свиты увидел костюм, тождественный с его, и сшитый «Ганри» за полцены. Он сразу перешел к нему и оставался ему верен до смерти. После катастрофы отец видел у «Ганри» царскую военную тужурку, разорванную во время падения вагона-столовой, которую император, очень, вообще, бережливый, прислал для починки.
В один из первых дней по приезде нашем в Петербург все учебные заведения были выведены на Невский, по которому проезжала вся царская семья в Казанский собор к молебну по случаю «чудотворного» ее спасения. За это стояние я вновь простудился, а затем большую часть зимы опять хворал, хотя и не так, как годом раньше. К экзаменам меня допустили, и перебрался я в «большое» Училище, хотя и не блестяще, но без переэкзаменовок. Старшее отделение приготовительного класса служило вообще фильтром, через который процеживались все переходящие в VII класс «большого» Училища, и поэтому было самым многочисленным в нем. Кроме того, плата за учение в Училище была высока – 600 руб. в год, и казенные стипендии были только начиная с 7-го класса, поэтому бывали случаи, что не получившие стипендии оставались на второй год, чтобы добиться ее после повторных экзаменов.
Таким образом, из 50 бывших в старшем отделении нас перебралось в 7-й класс всего около 35. Была, впрочем, еще одна причина этому: попечитель Училища принц Ольденбургский восстановил в это время требование, чтобы в гимназических классах все были интернами, и кое-кто ушел из-за этого, в том числе и наш первый ученик Урусов. И мой отец сперва думал перевести меня из-за этого в соответствующий класс Лицея, почему на лето с нами поехал репетитор Василий Иеронимыч Соболевский (программы обоих учебных заведений не вполне совпадали), филолог, уроженец Верного, рассказывавший мне про страшное землетрясение, разрушившее этот город, где его отец был врачом.
Перед отъездом из Петербурга меня показали тогдашней знаменитости по детским болезням профессору Раухфусу, который нашел, что хотя у меня ничего серьезного нет, но за лето надо было бы меня подкрепить и посоветовал отправить меня первым делом в Погулянку, санаторий в 6 верстах от Двинска (тогда еще Динабурга) в чудном сосновом лесу графа Зиборг-Платера. Здесь под наблюдением д-ра Рентельна было устроено кумысолечебное заведение, которым я и воспользовался. Одновременно с нами находился там лейб-медик государя д-р Гирш, уже старик и, как все говорили, никуда не годный врач. Александр III, человек очень крепкого, казалось, здоровья, лечиться не любил, и Гирш ему подходил, но зато, когда царь заболел серьезно, его болезнь не была своевременно замечена Гиршом, и за ее лечение принялись, когда уже было поздно.
Из Погулянки мы направились в Берлин, где пробыли два дня. Обычно Берлин было принято критиковать за его безобразие и за скучность. Жить мне в нем не приходилось, и судить о скучности его я не могу, но должен признать, что в смысле архитектурных красот он не блистал, даже на мой детский вкус. Позднее я убедился, что в нем были сосредоточены большие научные и художественные богатства, но в этот первый мой проезд через него у меня остались воспоминания лишь об аквариуме, галерее восковых фигур и о шоколаде со сбитыми сливками в известном кафе Бауер.
Из Берлина отправились мы через Дрезден и Веймар, где у отца жил двоюродный брат, в Швейцарию. Единственная тетка отца, тетя Маша, воспитывавшаяся у прапрадеда в Бантельне, вышла замуж за англичанина Вентворт-Поль, и у нее было два сына: один английский адмирал, уже тогда умерший, и младший, майор Веймарской службы, к которому мы и заехали. Это был единственный случай, что я видел группу немецких офицеров его батальона, и воспоминание о них осталось у меня, как о людях выдержанных, но, вероятно, далеко не мягких. На следующее утро побывали мы в музее Гете, и к вечеру были во Франкфурте, поразившем меня своим недавно законченным тогда громадным центральным вокзалом. По дороге, когда поезд проходил около Иены, какой-то немец обратил мое внимание на замок на горе, знаменитый Вартбург, столь связанный с историей Лютера и в котором еще показывали на стене чернильное пятно, сделанное им, когда он бросил в явившегося ему дьявола свою чернильницу.
В Швейцарии мы направились в прелестное местечко Бад-Хейстрих, указанное тоже Раухфусом, дабы брать серные ванны. Расположенное в 20 минутах от городка Шпис на Тунском озере, в долине у подножья горы Ниссен, конкурировавшей с Риги и Пилатом по красоте видов с нее на главную цепь альпийских гор, это местечко подавлялось снежной вершиной Блюмлисальп, хотя до нее и было еще около 40 километров.
В Хейстрихе оказалось довольно много русских, среди коих центральной фигурой была знаменитая певица Славина, по мужу баронесса Медем, жена жандармского полковника. Помню еще красивую брюнетку, именовавшую себя графиней Кассини и женой нашего посланника в Вашингтоне. Отец мой сомневался в этом, зная Кассини за вдовца, но, по-видимому, действительно старик закончил браком свою связь с этой дамой. Был еще там грузный д-р Беляев, помощник начальника Главного военно-санитарного управления, человек довольно тупой, если судить по тому, что на вопрос отца, почему он не вернется с семьей в Россию через Вену, где он никогда не был, ответил, что он этот путь не знает и потому предпочитает «торную дорожку через Берлин и Эйдкунен».
Из Хейстриха устраивались различные прогулки, частью коллективные, частью нами отдельно, причем самыми интересными были импровизированные. Несколько раз было, что отправлялись мы на прогулку на час-два, а потом увлекались и иной раз возвращались только на следующий день, ибо окрестности Хейстриха столь очаровательны, что гулять можно по ним без конца. Как-то, выйдя с утра, мы стали подниматься на Ниссен, гору в 7.500 футов и днем добрались до ее вершины, где была построена тогда довольно примитивная гостиница для туристов. По дороге перекусили мы в пастушьей хижине хлебом с сыром и молоком. Надо сказать, что по другую сторону Ниссена лежала долина реки Симмо, где разводился знаменитый Симментальский скот, производители которого вывозились и в Россию. Вершина Ниссена была, однако, уже в облаках, и когда мы поднялись на следующее утро, чтобы увидеть хваленый восход солнца, ничего не было видно уже в 10 шагах, а когда мы начали спускаться, пошел дождь и в Хейстрихе мы были через два часа насквозь мокрыми.
Из Хейстриха через три недели направились мы в Женеву, где отец хотел повидать старого своего друга еще по Гейдельбергу, Деппе (Deppe), бывшего там rеgent du Colllеge (преподавателем среднего учебного заведения, принимавшим младший класс и ведшим его до выпуска). Деппе после университета некоторое время пробыл в России гувернером дяди Иосифа и жил в Кемцах, где отец еще более сблизился с ним. Кстати, в то время в Кемцах жил, изучая русскую деревню, также знаменитый позднее английский журналист Mac-Kenzie Wallace, собиравший там материал для известной его книги о России, с которым мне пришлось познакомиться уже почти через 40 лет, когда я был членом Государственной Думы и он меня интервьюировал по финляндскому вопросу. В книге, которую он тогда написал о России, по словам отца, он упомянул его, как «легкомысленного молодого человека», но я этого места не нашел.
Кстати, говоря о Кемцах, я забыл сказать, что там была вторая усадьба, Веригиных, перешедшая позднее к известному математику и другу нашей семьи профессору К.А. Поссе.
О Веригине отзывы были неважные. Был он офицером Конной Гвардии, и должен был уйти оттуда вместе с некоторыми другими офицерами по скандальному делу, если не ошибаюсь, «Червонных валетов» – кружка мошенников и жуликов. Папа называл мне, как участников этого кружка, еще двух братьев Свечинских. Кое-кого из этой группы судили, но против большинства достаточных улик не было, и они отделались лишь исключением со службы. Бабушка рассказывала мне как-то, что ей пришлось присутствовать в доме знакомых при тягостной сцене, когда один из этих подозреваемых, тоже конногвардеец, резко обратился к даме, заговорившей об этом скандале, и предупредил ее, что, если она еще будет говорить на эту тему, то он вызовет ее мужа на дуэль. Бабушка называла мне тогда все фамилии этих лиц, но я их теперь не помню.
Папа не раз говорил мне про других Валдайских помещиков. Д.А. Поливанова он не особенно любил, а брата его, Митрофана, считал просто жуликом. Кстати, не был ли этот Митрофан тем самым Поливановым, о котором упоминается в биографиях Л.Н. Толстого в связи с семьей Берс?
Валдайцем был и Климов, директор департамента Министерства Гос. имуществ, вместе с Оренбургским генерал-губернатором Крыжановским главный виновник так называемого расхищения «башкирских» земель, которые розданы были ряду лиц. Я упоминаю в другом месте про увольнение из министров за это дело князя Ливена, виновного в том, что проглядел эту махинацию. Но Крыжановский и Климов тоже были тогда уволены, избежав, однако, суда. Не знаю, были ли возвращены в казну розданные тогда земли. Вероятно, нет.
В Кемцах же долгие годы был священником всеми уважаемый и культурный о. Петр Пятницкий, сын которого, естественник К. Пятницкий, был позднее известным преподавателем в Петербурге и соиздателем, вместе с М. Горьким, прогрессивного книгоиздательства «Знание». Сестра его была замужем за С.П. Боголюбовым, учителем Кемецкой школы и позднее управляющим «Знанием», и одновременно управляющим домами отца.
Возвращаясь к Женеве, где Деппе и на меня произвел чарующее впечатление, отмечу вздорный, но врезавшийся у меня в памяти казус, как я хотел, подражая взрослым, положить в кафе мелкую монету на тарелку певичке и по ошибке положил единственный бывший у меня золотой 10-франковик, весь мой тогдашний капитал. Отец заметил это и стал надо мной смеяться, что я раненько начинаю ухаживать, чем меня, мальчика вообще очень застенчивого, сконфузил настолько, что и посейчас этот вечер остался в числе наиболее неприятных воспоминаний моей жизни.
После Женевы мы провели неделю в Париже, где в то время была открыта всемирная выставка 1889 г. Главной ее достопримечательностью была новая тогда Эйфелева башня, на которую и мы поднялись в числе тех громадных толп, которые считали необходимым полюбоваться видом с этой необычайной тогда вышины. Все Парижские выставки, насколько я могу судить, очень схожи друг с другом, и главное их отличие одной от другой заключалось в развлечениях и в архитектурных украшениях. Из «аттракционов» особенно кричали в 1889 г. про «танец живота», в общем, довольно неинтересный и позднее изображавшийся не только африканками, как тогда.
Последними визитами нашими были посещения родных отца в Ганновере. Остановились мы в этом городе, и оттуда съездили в Бантельн, где уже 80-летним стариком жил брат моего прадеда граф Александр Беннигсен. Воспитывался он в Германии и был близок к либеральным кругам Ганновера, почему в 1848 г., когда произошла французская революция, отразившаяся и в Германии, король поручил ему составление либерального министерства. Через два года это министерство было сменено, причем король заявил, что по своей воле он с ним не расстался бы, но вынужден подчиниться давлению других немецких правительств, в то время уже вновь реакционных. Перед тем, еще в 30-тых годах Александр Леонтьевич был в России, где Николай I предложил ему поступить на русскую службу, но он уклонился от этого. И после 1850 г. он принимал участие в политической жизни Ганновера и был одно время и председателем палаты депутатов, пока особым законом бывшие министры не были лишены права быть депутатами. Все время он был сторонником осторожной политики по отношению к Пруссии, которой давно боялся, и, еще будучи главой правительства, пытался в 1849 г. создать на сейме во Франкфурте союз второстепенных государств, дабы нейтрализовать Прусское влияние, но это ему не удалось.
В 1866 г. его реакционный преемник Борриес привел Ганновер к войне с Пруссией, накануне которой в Бантельн из соседнего королевского замка Мариенбург приехала королева (король был слеп) просить Александра Леонтьевича вновь стать во главе правительства, но он отказался, считая, что спасти независимость Ганновера уже нельзя. Война продолжалась всего несколько дней и закончилась капитуляцией ганноверской армии, после чего королевство было присоединено к Пруссии. Александр Леонтьевич Беннигсен остался, однако, до конца сторонником независимости Ганновера и в прусском парламенте был главой небольшой группы «вельфских» депутатов. Говоря как-то с моим отцом о Рудольфе Беннигсене, который в 60-х годах основал вместе с Ласкером партию национал-либералов, после 1866 г. наиболее сильную в Германии, и который, будучи ее главой, кроме нескольких частных случаев, поддерживал Бисмарка в его политике, Александр Леонтьевич назвал его предателем ганноверского дела, и вообще, с моральной стороны ценил его не слишком высоко, хотя и признавал его способности.
В Бантельне, небольшом чистеньком городке, кроме усадьбы, была большая паровая мельница и церковь. В церкви по левую сторону от алтаря висела большая картина библейского содержания, а по правую – большой портрет по весь рост прапрадеда Л.Л. Беннигсена в русском генеральском мундире с Андреевской лентой через плечо. Сам он был похоронен под церковью, а на кладбище я нашел несколько запущенных могил других предков. Мельница еще до последней войны носила название графской, Беннигсеновской, хотя уже почти 40 лет ни одного представителя нашей линии в Германии не было. Кажется, и сейчас она носит это название.
В усадьбе главный дом, светлый и чистый, не представлял никакого интереса, но был прекрасно расположен над рекой Лейне – с видом на поля, полого подымающихся за нею к горам Зибенгебирге (Семигорье). Стоявший рядом старый господский дом и по архитектуре, и по характеру комнат мало отличался от старинных крестьянских домов, хотя когда-то и назывался «замком». Прекрасны были зато все хозяйственные постройки, отделенные от дома старинным садом, в главной аллее которого стояли деревья в несколько обхватов.
Александр Леонтьевич, маленький старичок со слабым голосом, жил в то время со своей младшей сестрой, довольно несимпатичной старухой, вдовой их двоюродного брата Андржейковича. При ней были трое ее уже пожилых детей, двое сыновей и дочь. Один из них позднее женился на княжне Огинской, и к его детям перешли все благоприобретенные имения Александра Леонтьевича.
Уже тогда меня поразило то почтение, которое оказывалось Александру Леонтьевичу, но я думал, что оно было связано с его прежней политической ролью, и только позднее, после его смерти, я убедился, что оно в значительной степени зависело от его положения, как помещика, ибо позднее такое же почтение оказывалось моим отцу и дяде.
Между прочим, в Бантельне жила семья «русских» Ванькиных, по-русски, однако, не говоривших. Это были потомки одного из нескольких крепостных, которых прапрадед, выйдя в отставку, привез с собою в Бантельн. Отсюда мы проехали еще в соседний Гильдесгейм, где доживала свой век тетка отца, милая старушка Мария Вентворт-Поль со своей, тоже старой, незамужней дочерью.
Кажется, возвращались мы в этот раз из Москвы в Гурьево с ночным поездом, и с Лаптева ехали с доктором Замбржицким, возвращавшимся с процесса обанкротившегося Кронштадтского банка, на котором он выступал свидетелем защиты директора банка князя Д.Д. Оболенского, по суду оправданного. В Оболенском видели одного из прототипов Облонского в «Анне Карениной». Действительно, он был приятелем Толстого и был человеком легкомысленным, как и Облонский. Известен он был как «сухарный» Оболенский, ибо принимал какое-то участие в компании интендантских поставщиков «Горвиц, Грегер и Коган», которой во время Турецкой войны 1877-1878 гг. был сдан подряд на снабжение Дунайской армии сухарями. На компанию эту было тогда много нареканий, что сухари ее доходили до войска с опозданием и, главное, были недоброкачественными. Оболенский, как и ряд других носителей видных фамилий, занимался тогда хлопотами по получению крупных подрядов в правительственных кругах Петербурга. В сухарном подряде его роль этим и ограничилась, но в Кронштадтский банк он вошел, не имея никакого понятия о банковском деле, в состав правления. Злой воли у Оболенского, вероятно, не было, а когда коллеги Оболенского довели банк до краха, то и он сел с ними на скамью подсудимых.
В Гурьево вернулись мы в конце августа, и вскоре меня отправили в Петербург в Правоведение. За лето я очень оправился, переходить в Лицей мне не хотелось, и родители согласились оставить меня в Правоведении.
Лето 1889 г. было годом «реакционных» реформ Александра III. У нас, как и всюду, много говорили о них и осуждали их, но сейчас, вспоминая всю тогдашнюю обстановку России, мне кажется, что их влияние на дальнейшую эволюцию страны переоценивается. Несомненно, что уже при Александре II ход его реформ после 1870 г. затормозился, и уже с первых месяцев царствования его сына, когда он решил не опубликовывать весьма скромную «Лорис-Меликовскую» конституцию, было ясно, что при этом государе шансов на немедленное дальнейшее политико-социальное развитие страны нет. Однако, все реакционные его реформы, по моему глубокому убеждению, имели только поверхностное значение, и только немного усилили противоправительственное движение. Основная идея всех этих реформ – передать власть на местах поместному дворянству – оказалась попыткой с негодными средствами.
К роли дворянства в эволюции России я вернусь позднее, теперь же укажу только, что реформы 1889-1890 г. лишь переименовали одних и тех же дворян-чиновников, выбираемых дворянами же, руководившими земством и назначаемых губернатором, и классовое начало в земских выборах заменили сословным. На деле перемена была не велика – люди, в общем, остались те же, но была подчеркнута привилегированная роль высших сословий без всякой нужды и пользы для них. Много говорили тогда про идиотскую фразу Делянова о «кухаркиных детях», которым не нужно даже среднее образование, но в сущности все реформы того времени были основаны на том же принципе искусственного обособления овец (дворян) от козлищ (других сословий).
Веневский уезд был соседним с Михайловским и Зарайским, в одном из которых был забаллотирован в гласные бывший министр народного просвещения граф Д.А. Толстой, и у нас говорили, что именно это забаллотирование и лежало в основе его враждебности к бессословному началу, приведшей к реформам Александра III, когда Толстой стал министром внутренних дел. Реформы эти были встречены враждебно даже в чиновничьих кругах, и в Государственном Совете большинство высказалось против них, но Александр III утвердил мнение меньшинства. По существу, обо всех их мне придется говорить, когда я перейду к моей работе в Старорусском уезде, пока же, в виде общей характеристики их, скажу только, что реформы эти ни в коем случае не остановили революцию, а скорее ее приблизили.
В сентябре я явился в «большое» Училище, где первые дни привыкания к обстановке всей его жизни были довольно тяжелыми для всех нас, живших до того только в среде своих семей. Весь училищный строй шел по полувоенному шаблону, установленному еще с Николаевских времен. Поднимались мы на младшем курсе, т. е. в гимназических классах, по звонку в 6 часов, и должны были в 7-м классе сразу вскакивать, ибо задержавшихся в умывалке выгонял оттуда 6-й класс, запаздывавший вставанием на четверть часа.
В 6.30, после общей молитвы, мы шли строем пить чай, в те времена очень безвкусный, дававшийся в кружках полуостывшим с трехкопеечной булкой. С 8 до 11 часов шли уроки, после чего мы, опять строем, шли завтракать в столовую. Кормили нас, в сущности, достаточно и свежей провизией, но еда была очень невкусно приготовлена. Уверяли, что смотритель Федоров, заведовавший кухней, очень на ней наживался, но когда позднее кухня была поставлена под контроль самих воспитанников и нас стали кормить прекрасно, то результатом этого явился крупный перерасход, и возможно, что нарекания на Федорова явились результатом общего недоверия ко всем, кто ведал хозяйственной частью.