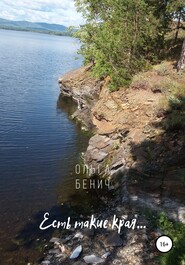 Полная версия
Полная версияЕсть такие края…
«Если б ты знал, Слава, сколько в нашей жизни теперь необычного, от которого ты, при всем желании, не спасешь!» – думала Ольга, пока они ехали домой. Паша завалил ее вопросами. Она нехотя отвечала, сознавая свою вину. Потом на нее, видимо, подействовали лекарства, и она вырубилась, обняв кота и Беню, которые забрались к ней в кровать. Кот мирно урчал, а собака думала: «Нашли героя, что он сделал- то? Корочками только махал. Вот без меня хозяйка бы кровью истекла. А мне даже спасибо не сказали». Она обиженно отвернулась, но потом, поразмыслив, решила все-таки проявить благородство и стала лизать безжизненно повисшую руку Ольги.
Глава 7
Однако они понимали, что в связи с их положением, ничто и никто не спасет их от повторения подобных инцидентов. Но жизнь продолжалась, прошел почти год с их поездки в Верхотурье, а кроме защиты самих себя, они ничего не сделали. Наступало время очередного отпуска, и в стране, и за рубежами было как-то неспокойно, но поехать куда-нибудь хотелось, и они решили провести неделю в Казани. Все-таки это третья столица России, и говорили, что очень красивый город. К тому же, там были отчасти и Пашины корни, ведь мама его была настоящей казанской, а значит крещеной, татаркой. На поезде нужно было ехать всего лишь ночь, и утром они прямо с перрона вокзала попали в великолепный холл недавно построенного метро. Город влюбил в себя с первых шагов. В отличие от сдержанного, мистического Петербурга, который оба считали своей духовной альма-матер, Казань была веселой, улыбчивой и очень чистой. Целыми днями они бродили по историческим улочкам, заходили в православные храмы и мечети, сидели в кафе и ресторанчиках. Особенно им нравилось бывать на набережной перед университетом. Там всегда играл джаз, молодежь рассекала на электросамокатах, бабушки в национальных костюмах играли с детьми, и взрослые, и малыши гладили и подкармливали лошадок, катающих всех желающих, слышалась разноязыкая речь. В общем, было весело. «Знаешь, наверное, когда наши деды представляли коммунизм, они видели приблизительно такую картинку», – сказала как-то Ольга, глядя на окружавшие их здания Сталинской застройки. На теплоходе они съездили в Свияжск, удивились как из тюремно – психиатрического ада, городок превратился в туристический рай. Сходили на национальный балет «Золотая Орда», и поразились мастерству танцоров, а надо сказать, они в своей жизни видели немало балетов, и слышали много опер в разных городах мира. В последний день их пребывания в Татарстане они решили еще раз пройти по главной пешеходной улице, чтобы купить что-нибудь на память об их замечательной поездке. В этот день оказался открытым музей художника Константина Васильева, в который они пытались попасть всю неделю. Они купили билеты, зашли в полутемное помещение. Сразу же их внимание приковала картина, изображающая военный парад сорок первого года. Была в ней какая-то тревожность, и сила, которая заставляла покрываться мурашками все тело. С трудом отойдя от нее, Павел и Ольга осмотрели картины в других залах. В основном это были сказочные и исторические сюжеты, была в них некая загадочность, но и искусственность. Они снова подошли к «Параду». Чем больше они всматривались в лица солдат, многие из которых шли прямо в последний бой, тем больше картина их «втягивала» в себя. И вот они обнаружили, что выходят с Красной площади в прифронтовой Москве, в ноябре сорок первого года. Паша шел в строю, отмаршировавшего уже полка, а Ольга бежала за ним, пытаясь, обойти оцепление. На обоих были серые солдатские бушлаты, за плечами вещмешки. У Паши была еще и винтовка. Они шли квартал за кварталом, пока не покинули город. Очевидно, полк вышел на позиции, а были они совсем рядом с Москвой. Когда, по команде, строй полка рассыпался на отдельные подразделения, Ольге удалось подбежать к мужу. Они обнялись, и не успели сказать друг другу пары слов, как на них налетел мужик средних лет, в белом овчинном полушубке, должно быть командир, и завопил: «Эт-то что еще за сентиментальная комедия! Хозвзвод в деревне базируется! Ну-ка, шагом марш!» Ольга поняла, что это он ей, и пошла по направлению к нескольким домикам, видневшимся на горизонте. Вскоре она догнала небольшой обоз из нескольких телег, его сопровождал с десяток женщин. Она незаметно пристроилась к ним, раздумывая, как быть. Ведь у нее ни документов, ни хоть какого-то объяснения своего появления здесь не было. Но никто у нее ничего и не спрашивал. Женщины, как видно, друг друга не знали, поэтому на новенькую внимания не обратили. В деревне бывшее здание школы приспособили под полевой госпиталь, а в соседней избе устроили прачечную, куда и попала Ольга. Сначала они доставали с телег чаны и огромные кастрюли, в которых нужно было кипятить воду, потом ходили по дворам, забирая у местных последние дрова и пытаясь разламывать хлипкие заборы, потом таскали ледяную воду из колодца, растапливали печи в избе, и в бане. Пришла их главная, сержант Изотова, баба лет пятидесяти, вручила всем по куску хозяйственного мыла, и по пакетику с содой, сказала, чтоб берегли моющие средства как зеницу ока. Потом разрешили поесть. К госпиталю подкатила полевая кухня, всем выдали по два половника перловой каши без всякой заправки и по куску грубого черного хлеба. Ольга жевала резиновую крупу, и думала, как быть дальше. Бой шел недалеко, судя по грохоту орудий. «Что там с Пашкой? Зачем мы здесь?» – размышляла она. Понятно было, что любой ценой нужно найти мужа, чтобы дальше что-то предпринять. Тут в сарай, где они расположились, забежал совсем молоденький красноармеец, почти ребенок и истошно закричал: «Девки, раненых привезли, айда грузить!» Ольга улыбнулась, все «девки» годились ему в мамы, но «на войне, как на войне». Прачки зашли в школьный двор, две молоденькие медсестрички, с трудом снимали с подвод раненых и волокли их на носилках в здание. Легкораненых не было, все или с оторванными конечностями, или с вывернутыми кишками. Ольгу замутило, но она опять вспомнила про царских дочерей, и смело подошла к подводе. Рядом с ней встала Люба, женщина, на вид лет сорока с изможденным, серым лицом. Вдвоем они взяли солдатика за руки и за ноги, и, положив на носилки, донесли до школьного коридора. Там уже лежало человек десять. Пожилой военврач осматривал их, определяя, кого он сможет спасти. Сестры, разрезали окровавленную одежду, делали перевязки, пытаясь остановить кровь. Ольга старалась не смотреть на раненых, не думать об их судьбе, она просто тащила их из последних сил туда, где у них появлялась хоть маленькая надежда. Когда перетаскали всех, сестры отдали им ворохи окровавленной одежды, и они принялись за стирку. Стирали почти в холодной воде, весь кипяток отнесли в госпиталь, а дров взять было неоткуда. Через несколько часов снова прибежали из госпиталя, снова нужно было помогать с ранеными. Казалось, эта карусель длится вечно, Ольга потеряла счет времени. В какой-то момент пришла Изотова и сказала, что можно передохнуть. Несколько женщин из прачки пришли в отведенный им для жилья сарай и рухнули на солому вперемешку с навозом. Ольга не знала, сколько она проспала, но проснувшись, в лунном свете она увидела, неподвижно сидящую рядом с ней Любу.
– Ты что не спишь? – шепотом спросила она.
– Не спится, – ответила женщина.
Ольга хотела было снова заснуть, но присутствие рядом бодрствующего человека мешало ей. Поворочавшись, она снова обратилась к Любе:
– Спи, а то завтра вырубишься!
– Нет, – ответила та, – я уж третий год не сплю.
– Что совсем? – удивилась Ольга.
– Ну, иногда, на минутку теряю сознание, но потом быстро прихожу в себя. Это меня Бог наказывает!
– За что?
– Да так… Был у меня до войны муж и четверо детей. Муж – шахтер, в Горловке мы жили, под Донецком. Деньги хорошие получал, уважали его, как же, стахановец! Даже путевку в Крым дали, в санаторий, значит. Он поехал, да закрутил там с одной. Мне добрые люди быстро рассказали. Деньги все прогулял, мне телеграмму шлет, мол, вышли на дорогу. А я ему пишу, иди, мол, пешком. Ну, он как-то добрался, поругались мы сильно, но я простила, все-таки трое детей тогда было. Тут мы четвертого, Ванюшку, заделали. А он, ты знаешь, как-то потух весь, глаза какие-то рыбьи сделались. А через год, как сынок родился, он на чердаке и повесился. То ли приворожили его, то ли опоили, не знаю. Похоронила я его, а потом, как ему девять дней отмечать надо было, я пошла на базар продуктов на поминки прикупить. Хожу по рынку, вдруг бежит моя сестра, растрепанная вся, кричит: «Люба, Люба, Сережка под поезд попал!». Я так и обмерла. Побежали мы в больницу, Сереженька еще жив был, ноги ему отрезало. У нас пути, считай по двору проходили, вот он, то ли заигрался, то ли толкнул его кто, только попал под товарняк мой сыночек. Лежит на белых простынках смотрит на меня так серьезно и говорит: «Ты, мама, похорони меня в папиной оградке, а костюм мой Борьке отдай». Это дружку его. Все понимал, а ведь только девять ему было. А я, грешница, за ручонки его держу, а сама думаю: «Хоть бы тебя Господь прибрал. Не поднять мне еще троих с тобой, калекой».
Женщина говорила совершенно спокойно, ни один мускул не дрогнул на ее испитом лице, и от этого Ольгу душили рыдания, ничего страшней и правдивей она в своей жизни не слышала. Тем временем Люба продолжала:
– Похоронила я и Сереженьку, все сделала, как он просил. А через два года война. Бомбили нас сильно. Вернулась я как-то домой с работы, а вместо дома – воронка. И все мои там. И Сонечка, и Леночка, и Ванюшка. Вот так. Никого не подняла, не вырастила. А ты говоришь, спи…»
Ольга обняла женщину, прижала ее к себе, стала судорожно гладить ее волосы. Но Люба никак не отвечала, сидела как неживая, да она уже давно и была неживой. Ольге стало невыносимо стыдно за свою какую-то кукольную жизнь, за слезы, которые она проливала по пустякам, за потраченные неизвестно на что эмоции, за мелочность своих желаний и устремлений. Так, обнявшись, они просидели до утра, когда в сарай зашла командирша, и снова началась эта горестная карусель, раненые, кровавые бинты, постирушки.
Ольга сбилась со счета, сколько прошло дней в таком режиме, может два, может три. Руки ее покрылись потрескавшейся коркой, казалось, и душа окаменела. Она уже никому не сочувствовала и никого не жалела. Однажды утром сержант Изотова сказала, что кто-то должен поехать на передовую, чтобы раздать ротным санинструкторам перевязочный материал и самые необходимые медикаменты. В госпитале не хватало квалифицированных сестер, поэтому решено было отправить кого-нибудь из хозвзвода. Ольга вызвалась ехать, думая с замиранием сердца, что не отпустят. Но кроме нее никто не горел желанием ловить пули на передовой. Она получила лекарства и накладные и погрузилась в полуторку, груженную боеприпасами, специально заехавшую за ней. Казалось, машина была полностью фанерная, женщина не представляла, как такое сооружение может самостоятельно передвигаться. Но к ее удивлению, полуторка зарычала и довольно резво понеслась по ухабам. За рулем сидел пожилой дядька, представившийся Карпом Степановичем. С шутками и прибаутками они доехали до первого взвода. Непосредственно на передовой стоял ужасающий запах, который ударял в голову даже ей, которая теперь могла спать на навозе. На ее замечание, шофер сказал: «А что ты хочешь? Целая армия гадит. Ты думаешь, что самое страшное для солдата? Вонь и вошь. Так-то». Ольга передала медикаменты молоденькой некрасивой медсестричке. С разрешения Карпа Степановича она быстро пробежала вдоль окопов, выкрикивая фамилию мужа. Она не надеялась, что кто-то скажет, где его искать, ведь у Пашки не было документов, и вряд ли кто-то знал его фамилию. «А вдруг не найду?» – думала Ольга, и в горле застревал комок. Но она продолжала шутить, в ответ на шутки Степаныча, потому что не хотела, чтобы он ее о чем-то начал расспрашивать. На следующей остановке нужно было разгружать боеприпасы. Бойцы подошли к машине, начали стаскивать ящики и уносить их поближе к окопам. Ольга пошла в блиндаж к санинструктору. Возвращаясь, на бруствере окопа она буквально наткнулась на Пашу. Он был худым, грязным, с отросшей щетиной, но в глазах его светился какой-то лихой огонек. Они обнялись, им нужно было о многом поговорить, но они не могли найти слов, и молча, шли между окопов и воронок, взявшись за руки. Наконец, они остановились у порванной колючей проволоки, намотанной на два столба.
– Надо выбираться отсюда, – сказала Ольга.
– Киссон, я не могу уйти сейчас, – ответил муж.
– Почему?
– За нами Москва. А за Москвой Урал. Если не мы, то кто?
– Паша, очнись. Ты же понимаешь, что это не наша война.
– Ну да, мы только фильмы про войну смотреть можем, и слезы глотать, когда «Прощание Славянки» слышим. А как дело дошло до дела, мы в кусты.
– Но ты же знаешь, чем все закончится.
– Киссон, я своих мужиков не оставлю. Не проси. Да и кто знает, как нам выбираться? Пусть все идет, как идет.
Паша обнял жену, коснулся потрескавшимися губами ее щеки. Над ними со свистом полетели снаряды, началась наша артподготовка. Ольга оторопела от ужаса. Муж столкнул ее в ближайшую воронку, и побежал к своему окопу. Снаряды летели еще несколько минут, потом наступила оглушительная тишина, а потом откуда-то издалека понеслось: «За Родину! За Сталина! Ура!» Ольга выбралась на край воронки и смотрела, как серая людская масса поднялась из окопов и двинулась в сторону ближайшей деревни. Женщина побежала за ними, пригибаясь от страха, запинаясь о трупы, она старалась не упускать из вида ту группу, в которой, как ей, казалось, был Павел. Наступление шло сначала бодро, но достигнув окраины поселка, захлебнулось.
Пашка бежал вместе со всеми, крича во всю глотку: «За Родину! За Сталина!» Эти возгласы помогали ему преодолеть животный страх, когда он на минуту останавливался перезарядить винтовку и перевести дух, и в это мгновение, он краем сознания улавливал, что надо бежать вперед, во что бы то ни стало. Огонь обороняющихся фашистов косил его товарищей, но Паша видел, что их еще много, вместе они сила и бежал, бежал вперед. Но вот свинцовый ливень стал чаще, атака захлебнулась перед самым первым домом на окраине деревни. Дом был каменным и довольно высоким, видимо, раньше здесь находилась какая-то контора, неподалеку возвышалась водонапорная башня. На чердаке дома засел немецкий пулеметчик и косил каждого, кто пытался подняться. Но командир орал: «Вперед!». Люди поднимались, и падали замертво, не красиво, не героически. Пашка, лежа носом в мерзлой земле, подумал, что если бы ему удалось забраться на башню, он мог бы закидать огневую точку гранатами. Он потихоньку пополз в ту сторону, и когда был уже почти у цели, его схватил за плечо командир роты: «Куда намылился, сука? – глянул он на бойца глазами, налитыми кровью, – пристрелю как собаку! А ну-ка вперед!». Паша хотел объяснить свой план, но командир поднялся во весь рост, и поднял его за шиворот. Рота тоже попыталась подняться, и снова десятки трупов упали на мерзлую землю. В этот миг Павел понял, что подвигло Александра Матросова закрыть собой вражеский пулемет. Вонь, вши, многодневная усталость, а главное, бессмысленная и беспощадная гибель товарищей. Ведь есть же в данной ситуации решение, которое спасет много человеческих жизней, почему командир его не принимает? Он отыскал взглядом капитана, и увидел, что тот лежит на спине и смотрит в небо остановившимися глазами, по белому полушубку растекалось кровавое пятно. Тут пулемет внезапно замолчал, наверное, закончились патроны. Взводный повел роту в атаку, через час деревня была взята.
Ольга брела по освобожденной деревне, пытаясь отыскать мужа. Иногда из полуразрушенных домов выходили старухи с абсолютно черными, равнодушными лицами, потом она увидела детей с лицами стариков. Никто не плакал, и не радовался. Кто-то пытался приладить оторванную дверь, кто-то тащил остатки забора, видимо, чтобы растопить печь или разжечь костер. На улицах валялись трупы, в основном немецкие, но были и наши, никто не обращал на них внимания. На площади, в центре поселка, небольшими группами сидели красноармейцы с пустыми глазами, почти все курили «козьи ножки», свернутые из газет. В одной из групп она увидела Павла, и быстро пошла к нему. Вдруг откуда-то появилась гармонь, и понеслись звуки танго «В парке Чаир распускаются розы …». Пожилой усатый боец, старательно нажимая на кнопки, немного фальшиво выводил довоенную мелодию, глаза солдат начали теплеть. Внезапно музыкант оборвал тягучий сладостный мотив, и над площадью понеслась залихватская «Барыня». Двое солдат, таких грязных, что невозможно было определить их возраст, выскочили в середину круга, и начали выделывать разные плясовые коленца. Музыка заиграла веселее, танцоры ускоряли темп, казалось, они яростно выплясывают всю свою усталость, только что пережитой страх, боль от потери товарищей. Сидящие рядом стали хлопать, свистеть, отпускать грубые шуточки. Смерть на время отошла от бойцов, жизнь по праву брала свое. Паша увидел жену, подбежал к ней, они обнялись.
– Ну, как ты? – спросила Ольга.
– Нормально. Видишь живой и здоровый. Только знаешь, я много понял об этой войне. Я ведь всегда думал, что в Чечне было много дури, и от этого ребята гибли как-то неправильно, глупо. Оказалось, что здесь, то же самое. Это только в фильмах спели «Смуглянку» и погибли героически в воздушном бою, или исполнил «цыганочку с выходом» и красиво погиб под танком. А здесь все – некрасиво, мы здесь просто пушечное мясо, но все мужики все равно герои, даже больше, чем в книгах писали и в кино показывали, потому что подняться и идти под пули, это надо железные яйца иметь. А у них, они, да, железные.
Солдаты стали расходиться с площади, командиры отводили свои подразделения на постой, стали подтягиваться полевые кухни. Вдруг воздух разрезал страшный визг. С неба посыпались бомбы, немецкий самолет прицельно сбрасывал их на площадь, где толпилось еще много солдат. Павел с Ольгой укрылись в яме на чьем-то огороде. Если бы у них остались силы, они бы, наверное, бежали, подгоняемые инстинктивным ужасом. Но за сегодняшний день они пережили уже столько опасностей, что просто лежали, обнявшись, вжавшись в промерзлую землю, как будто она могла их спасти. Бомбежка закончилась также внезапно, как и началась. Ольгу поразила наступившая тишина, потом она поняла, что просто оглохла от взрывов. Она понимала, что должна вернуться в свой хозвзвод. Оставаться с Пашей, и привлекать к себе внимание было опасно. Муж решил проводить ее до окраины села. Они вылезли из ямы и побрели к площади, усеянной трупами и ранеными. Гармонист, который еще несколько минут назад, пытался вернуть жизнь в это растерзанное село, истекал кровью, прижав к себе инструмент. «Братка! – прохрипел он, обращаясь к Павлу, – гармонь…». Паша наклонился над ним, но солдат уже перестал дышать. Мужчина взял в руки инструмент, гармошка издала жалобный звук, будто прощаясь с хозяином. Закинув инструмент за плечо, он закрыл глаза покойнику, и сурово посмотрел на серое небо, откуда пришла смерть. Взявшись за руки, Ольга и Павел пошли к околице. Говорить не хотелось, да и сил не было. Они дошли до дома, где сидел пулеметчик, убивший несколько десятков русских солдат. «Давай зайдем, посмотрим, что за перец стольких наших положил», – предложил Павел. Ольге идти не хотелось, но расставаться с мужем не хотелось еще больше, и она двинулась за ним на чердак, откуда немец вел огонь. Поднявшись по приставной лестнице, которую Паша обнаружил среди всякого хлама, они увидели, что возле пулемета лежит труп совсем молодого солдата. Он был прикован цепью к трубе, проходящей через все помещение, у его виска зияла дыра от пули, пистолет валялся рядом. «Вот зачем стольких людей убил, если знал, что все этим кончится?» – спросил Паша неизвестно кого. «Наверное, думал, что свой долг выполняет. А убить себя ведь страшно. Может до последнего на чудо надеялся», – сказала Ольга. «Какие долги у человека на цепи?» – возмутился муж. «У них цепи, у нас заградотряды», – подумала Ольга, но вслух ничего говорить не стала. Паша потянулся за немецким кинжалом, лежавшим возле трупа, с детства он испытывал страсть к холодному оружию, да еще такому красивому. Пол под ним провалился, и он с криком полетел вниз. Ольга, недолго думая, сиганула за ним.
Приземлились они в полутемном холле музея, посмотрев друг на друга, обнаружили, что они, судя по одежде, снова в своей реальности, только через плечо у Павла висит гармонь. Совершенно обалдевшие, они двинулись по нарядной улице, залитой солнечным светом, каждый из них остро чувствовал, что вот оно, счастье. Счастье, когда не стреляют, когда ты идешь в чистой одежде, и по дороге нет ни одного разрушенного дома. Посредине Бауманки стояли шатры с разными татарскими сувенирами, а в одном из них парень в тюбетейке торговал гармошками. Они были разного размера, простые и инкрустированные, были там и баяны, и аккордеоны. Увидев на плече Паши гармонь, продавец закричал: «Вах, какой инструмент, братка! Дай попробую поиграть!». Паша внимательно посмотрел ему в глаза, было в его интонации что-то знакомое и трогательное. Он снял с плеча гармонь и передал парню. Продавец ловко пробежал пальцами по кнопкам, и над Казанью понеслось: «В парке Чаир распускаются розы…» Играл он хорошо, профессионально, у шатра собрались слушатели. Закончив мелодию, он обратился к Паше: «Продай гармонь, брат!». «Бери так», – ответил Павел, уже заметивший на безымянном пальце музыканта перстень с изображением ангела. Мужчины пожали друг другу руки, обнялись, и супруги двинулись в сторону гостиницы. Этой ночью они должны были уехать домой.
Все время до поезда они молчали. Не было таких слов, чтобы выразить свои ощущения, за проведенные на войне дни, хотя в их реальности они отсутствовали часа два. Уже в купе, где на их удачу не оказалось других пассажиров, выпив по хорошей порции водки, они, наконец, смогли заговорить. «Знаешь, – сказал Павел, – не было в моей жизни дней страшнее этих, но и счастливей их не было». «Ну, а Чечня?» – спросила Ольга. «Там я в таких мясорубках не был. И да, там были пацаны, с которыми мы шли под пули, и да, за смерть каждого из них я готов был мстить. Но, по большому счету, мы не понимали, что происходит. Почему вдруг чеченцы стали врагами? Да и они, наверное, не очень понимали, ведь до этого мы все были из одной страны. Помню, мы почти неделю голодали, начальнички про наш гарнизон забыли, так чеченки нас кормили. Друга моего, Стаську, ранило, отправили в госпиталь, а матери не сообщили. Она его искать приехала, мыкалась по всем комендатурам, без денег, и только местные ей помогали». «Ну и что, нашла?» – спросила жена. «Нашла, да лучше бы он умер тогда. Она его домой привезла, в психушке несколько раз лечила, потом он застрелился. А вот те мужики, с которыми я под Москвой в атаку шел, если выживут, не застрелятся, а страну поднимать будут и детей растить». «Всяко может быть», – подумала Ольга, вспомнив про Любу и ее мужа. А вслух сказала: «Да, у них четко задачи стояли, а у нас поднимать нечего. Если бы они увидели, что с их страной сделали их правнуки, может, многим тоже бы жить не захотелось». «Они думали, что все, кто родится после войны, будут по определению счастливые люди, ведь после таких бедствий, мир должен был быть добрее. Он и стал добрее, но только человеку на пользу это не пошло. Вот теперь можно убить родную мать, изнасиловать ребенка, а тебе за это почти ничего не будет, посидишь немного, да выйдешь условно-досрочно», – горько констатировал Павел. «Слушай, ведь если сейчас, не дай Бог, случится такая война, никто добровольно не пойдет, а при тиране Сталине шли», – размышляла вслух Ольга. «Ну, во-первых, вера была, ты вспомни свое пионерское детство», – сказал Паша. Ольга вспомнила, как в школе им рассказывали про пионеров – героев. Как к ним в класс приходили фронтовики, увешанные орденами и медалями, и рассказывали иногда страшные, но чаще смешные случаи из своей военной жизни. Как сама она хотела быть похожа на партизанку Лизу Чайкину, и героически погибнуть, крикнув в последнюю минуту что-нибудь вроде: «Русские не сдаются!». И теперь, уже во второй половине жизни, она не стыдилась этого детского наивного восприятия войны, и может быть, благодаря этому, она оказывалась в запредельных ситуациях своего теперешнего существования. Может быть, она и подозревала, что где-то история подкорректирована тогдашними идеологами, но она лично знала людей, переживших войну, она помнила их рассказы, которые были рассказами об их обыденной жизни, и им совсем ни к чему было врать в разговорах между собой. Ведь все знали правду жестокую и тяжелую, но и героическую и победную. И вот теперь, когда по телевизору, и в учебниках пытаются извратить историю, она с еще большим жаром продолжала верить в подвиг своего народа, и ей казалось, что если бы она утратила эту веру, душа ее стала бы жалкой и уязвимой. «И потом, попробовал бы кто-нибудь не пойти, – продолжал рассуждать Паша, – люди бы презирать стали». Ольга подумала о своем прадеде Дмитрии Кирилловиче. Когда началась война, ему было около сорока, наверное, он не рвался в бой, дома было трое сыновей и дочка. Но как бы он стал смотреть в глаза своим детям и оставшимся в селе бабам, чьи мужья ушли на фронт? И он ушел вместе со всеми, и погиб, защищая Ленинград, умер от ран в 455 медсанбате в деревне Кузино Чудовского района. Ольга теперь хорошо знала, что это такое. А бабушкин брат Алешенька, красавец и изобретатель, любимец всей деревни, был призван на срочную службу в мае 1941 и погиб уже в июле где-то под Славинском, который теперь другая страна… Дед с бабушкой так и не нашли его могилы, хотя искали много лет. «Теперь такой войны уже не будет, – сказал Паша. – Ведь если бы случилась новая Великая Отечественная, многие люди выбрались бы из зоны комфорта, в которую нас усиленно погружают, чтобы мы не думали, не принимали решений, не работали, в конце концов. А это для сильных мира сего опасно, гораздо опасней самой войны. Ведь стадом, которое всего боится легко управлять. Ты посмотри на наших детей, они собак боятся, сквозняков боятся, да проще сказать чего они не боятся, гаджетов, наверное. Вот теперь нам болячки всякие изобретают, от их пропаганды даже взрослые умные люди в панику впадают. Мне, кажется, мы бы Ленинград на второй день сдали, с таким самосознанием, ведь блокада – это так не комфортно и опасно». «Трудно сказать, – откликнулась Ольга, – ты помнишь парад на 9 мая в пятнадцатом году?»



