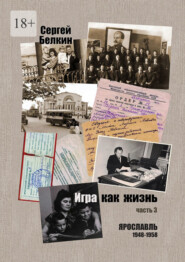скачать книгу бесплатно
И в горниле Ильмаринен,
На секире Каукомъели,
И на стрелах Ёукахайнен,
В дальних северных полянах,
На просторах Калевалы.
Их певал отец мой прежде,
Топорище вырезая…
Их певал отец мой прежде… Были и другие «читки». Например, «Сирена», «Жалобная книга», «Предложение», «Дачный муж», «Медведь», «Хамелеон» или «Злоумышленник» любимого им А. П. Чехова. Впрочем, такие чтения случались, к сожалению, далеко не каждый день: по большей части отец сидел у себя в кабинете и работал.
Когда была возможность, папа спал днем – полчасика или около того. Помню, как он однажды, это было уже в Кишиневе, проснувшись, но, все ещё не вставая, неожиданно запел, оставаясь в своей любимой, как он говорил, позе: на спине и руки за голову. Пропел какой-то романс от начала до конца.
Папа никогда не курил, редко и мало пил спиртного. При каком-то торжестве, в застолье он поддерживал компанию, но собственного желания и стремления выпить, как мне помнится, у него не возникало. Вот у меня, например, такое желание периодически возникает, а у него – нет. Хотя в цитированных выше записях расходов из записных книжек имеются и «пиво» и даже «портвейн». Так что, думаю, иногда он, все-таки от расслабляющего воздействия алкоголя не отказывался.
По утрам папа всю жизнь делал зарядку. Чаще всего это происходило на кухне, пока все ещё спят. Гимнастический комплекс упражнений был им отработан, видимо, в молодые годы. Среди прочего мне помнится, как он изображает колку дров: расставив ноги, поднимает две руки, сцепленные ладонями вверх, и резко бросает их вниз, слегка при этом приседая и делая шумный выдох. Он был очень крепок физически. Говорил, что особенности его развития сложились в детстве, когда ему пришлось лет с шести помогать своему отцу пилить тёс, причем работая снизу. Напомню тем, кто не знает: «пилить тёс» – это распиливать бревно вдоль на доски. Бревно водружается на высокие козлы, там же находится старший – мастер. Он направляет пилу и следит за точным ее движением, строго соблюдая ширину каждой выпиливаемой доски. Тот, кто тянет книзу огромную пилу, стоя внизу, напрягает и, соответственно, тренирует мышцы плечевого пояса и спины. Отец был кряжист и широкоплеч.
Периодически отец вспоминал, рассказывал что-то из деревенской жизни. Скажем, подробно описывал обряд сватовства и свадьбы. Запомнилось – потому что казалось смешным, – как показывают невесту, приподнимая платок, накинутый на ее голову. При этом вопрошают: «Хороша невеста иль нехороша?» По обычаю, надо было в ответ не только нахваливать невесту, но и бросать деньги. Рассказывал отец и про то, как бывал шафером на венчании в церкви: держал «венец» – венчальную корону – и как это было непросто физически: надо высоко держать руки, корона тяжелая, процедура длительная, а венчальный венец бывает и трехкилограммовым…
Отмечу, что, несмотря на то, что и отец, и мать были крещеными, в детстве посещали церковь, как их многочисленные предки во многих и многих поколениях, сами они верующими не были. Их мировоззрение основывалось на научной, материалистической картине мира и было вполне устойчивым, гармоничным. Потребности «утешения» с помощью религиозных образов и обрядов на моей памяти не возникало.
В речи отца сохранялись некоторые элементы костромской манеры. Слышалось легкое «оканье», проскальзывали особенности ударения в некоторых словах. Скажем, не «на ло?шади», а «на лошади?», не «в о?череди», а «в очереди?», или «ревишь» вместо «ревёшь»: «Ну что ты ревишь»? Иногда он мог то, что все называют миской, назвать чашкой. Или о том, что должно куда-то вместиться, мог сказать – «уберётся»: «В этот чемодан всё не уберётся». Или об одежде, обуви или ёмкости (кастрюле, например), имеющей дыры, мог сказать «худая», «прохудилась». Впрочем, это уже довольно распространенное выражение. В целом речь отца была, конечно, городской, литературной, правильной и богатой, но некоторые костромские словечки и обороты проскальзывали. Характерна была и общая манера говорить: неспешно, певуче.
Случалось, что отец усаживал всех нас за рисование, показывал и подсказывал: сам он хорошо рисовал. Сохранился только один из рисунков таких домашних уроков, уже Кишиневского периода (подписан 3 мая 1959 г.). Это рисунок Павлика, причем далеко не самый лучший. Тем не менее, опубликую его – просто как память о событии. Голубая ваза с «золотыми» ободочками был установлена на подставку для цветов, окрашенную морилкой под красное дерево. Рисовали ее и я и Саша, но наши рисунки не сохранились.
Долгие годы в семейном архиве хранились графические работы отца, выполненные им ещё до войны. Одна из них – перерисовка тушью тонким пером маминой фотографии большого формата, примерно 30 на 40. Вторая – тоже перерисовка – довольно сложной многофигурной композиции с какой-то старинной гравюры с пасторальным сюжетом: двое – юноша и девушка – под сенью ветвистого дуба с многочисленной тщательно прорисованной листвой. Обе эти работы, к сожалению, оказались в архиве брата Саши и ныне, вероятно, утрачены.
Ещё одна традиция складывалась и прививалась в семье. Подарки ко дням рождения и прочие поздравления сопровождались самодельными рисунками, надписями и т. п. Размещу здесь одно из нескольких сохранившихся поздравлений – поздравление Павликом мамы с новым 1958 годом (рис. 65).
У отца было и ещё одно «проявление внимания к детям»: он регулярно измерял наш рост. Делалось это так же, как в большинстве семей и, думаю, во всем мире: ребенок становился у стены или у двери, к голове сверху приставляли книгу, стараясь держать ее горизонтально, и карандашом проводили на стене линию. Во многих семьях такие «линии роста» скапливались годами и превращались в своего рода музейный экспонат. Было это и в нашей семье, во всех квартирах, где довелось жить. Есть такое и сейчас: линии роста моих детей сохраняются на торце одной из дверей в квартире…
Отец же, как профессиональный научный работник, экспериментатор-исследователь не ограничился одними лишь линиями на стене, а завел, можно сказать, лабораторный журнал, в котором расчертил не только таблицу с цифрами (рис. 66), но и график на миллиметровке. И название этому дал вполне в научном духе: «Динамика роста детей». Первая запись в таблице сделана в 1950 году, последняя – в 1966. На графике, который я здесь не воспроизвожу, были также указаны данные родителей: «Папа – 170; мама – 158 по состоянию на 25 мая 1957 года».
Прогулки с отцом продолжались и в последующие годы, уже в Кишиневе. Гулять со мной он ходил на Комсомольское озеро, в Долину Роз и на бассейн «Локомотив». Надеюсь, мое перо мемуариста добежит и до этих воспоминаний.
Не знаю, каким образом отцу удалось сформировать во мне такое глубокое, непреходящее чувство любви к России: русской природе и вообще всему русскому? Не он один, конечно, повлиял, это в нас пестовала и матушка. Мама действовала напрямую, вслух проявляла свою любовь к России, к русским людям, русской культуре, языку, подталкивала к соответствующему чтению, знаниям. Отец же ничего такого не говорил. Но во мне живет переживание – как некий момент истины: во время одной из совместных прогулок мы с ним стоим на каком-то возвышении, откуда открывался вид на долину, перелески, речушку… Он молчал, мы просто стояли и любовались, и что-то вошло в меня, родилось во мне и осталось жить там навсегда. Свершилось таинство рождения иррационального чувства любви к своей стране.
Фотографирование
В этой книге много фотографий. Большая часть из них – любительские, сделанные отцом и Павлом. В следующих томах будут и фотографии, сделанные Сашей и мной. Наш семейный опыт увлечения любительской фотографией стоит отдельного рассказа. В этом томе – первая часть этого рассказа, относящаяся преимущественно к пятидесятым годам. Хотя в описании некоторых фотографических процессов я опираюсь и на собственный опыт, обретенный в более поздние времена.
Отец увлекся фотографией ещё в двадцатые годы, когда учился и работал в Омске. Во втором томе повествования есть несколько его фоторабот тех лет. После переезда в Ярославль у отца своего фотоаппарата не было, но он мог пользоваться институтской фотокамерой Exakta – изделием знаменитой германской компании, ставшей впоследствии называться Praktika. Постепенно отец обзавелся и всем необходимым оборудованием. Красный фонарь довольно необычного вида – в деревянном футляре со стенкой из красного стекла, кюветы разных размеров, фотоувеличитель, бачок, колбы, воронки, химреактивы. Всем навыкам обработки фотопленки и процессу печати фотоснимков он обучил сперва Павлика, потом и нас с Сашей. Как это было им организовано в Ярославле, я не помню, но хорошо помню, как в нашей квартире в Кишиневе отец оборудовал фотолабораторию, использовав для этого ванную комнату. Он изготовил из досок откидной стол, прикрепленный одной стороной к стене, сделал над ним стеллажи, так что всё, что нужно было под рукой. Красный фонарь висел под стеллажами, на стол, поднятый до горизонтального положения и зафиксированный деревянной ногой, устанавливался увеличитель, рядом располагались кюветы, тут же была ванна и краны с водой.
Раствор приготавливался в большом – литровом – стеклянном химическом мерном стакане. Проявитель и закрепитель в виде порошков, упакованных надлежащим образом, покупался в фотомагазинах. Дома упаковки вскрывались и засыпались в емкость согласно инструкции: метол-гидрохиноновая или фенидон-гидрохиноновая смесь для проявителя, тиосульфит натрия – для фиксажа, он же закрепитель. Затем порошки надо было залить водой и, помешивая, растворять. Помешивать следовало специальной стеклянной палочкой (папа принес с работы из кафедральной лаборатории) и при определенной температуре, для чего требовался водяной термометр. Затем раствор надо было отфильтровать, используя фильтровальную бумагу, уложенную в стеклянную воронку.
Проявлять и закреплять следовало как пленку, так и фотоотпечатки, а для этого надо было готовить разные проявители и закрепители, хотя потом появились универсальные. Пленка проявлялась в специальном бачке из темного непрозрачного пластика (бакелита). Внутри бачка имелась катушка со спиралеобразной нижней стенкой. Надо было научиться в полной темноте, наощупь вынуть отснятую пленку из фотоаппарата и аккуратно, не прикасаясь пальцами к ее поверхности, держа ее только за кромку, вставить конец в запорное устройство катушки и медленно навернуть, вставляя край пленки в спиральную канавку. Затем катушка с пленкой помещалась в бачок, закрывалась крышка, и в специальное отверстие заливался проявитель. Отверстие для залива жидких реактивов и носик для выливания сделаны так, чтобы свет никоим образом не мог проникнуть внутрь. Проявлять надо было минут около десяти, время от времени вращая катушку за ось, торчащую из крышки. Затем проявитель выливался, заливалась вода. Пленка промывалась. Потом заливался закрепитель, надо было вращать ещё минут десять, потом снова промыть, и пленку можно вынимать. Тут наступал момент истины: становилось видно, что получилось, а что нет, какие кадры получились более или менее неплохими, дающими надежду на то, что снимок удастся напечатать. Затем пленка просушивалась: подвешивалась на бельевой веревке за прищепку.
Следующий этап – печать фотоснимков на фотобумаге. Это священнодействие происходит при свете красного фонаря: красные лучи не засвечивают фотобумагу. Пленка вставляется в фотоувеличитель, его лампа просвечивает выбранный кадр, через систему линз проецируется негативное изображение на плоскость – фоторамку, лежащую на подставке фотоувеличителя. Выбирается размер будущей фотографии – путем перемещения фотоувеличителя вверх-вниз по своей вертикальной штанге-стойке. Изображение наводится на резкость, затем лампа в увеличителе выключается. В рамку вкладывается фотобумага нужного формата (6 на 9, 9 на 12, 9 на 14, 13 на 18, 18 на 24 или 24 на 30 – это наиболее распространенные форматы в СССР). Затем лампа увеличителя включается и начинается отсчет времени, необходимого для экспозиции. Делают это, просто считая вслух или про себя «один-два-три-четыре…». Определяют нужное время на глаз, исходя из плотности негатива и методом проб и ошибок. Если дал времени слишком мало – недодержка, на снимке будут лишь бледноватые контуры, слишком много – передержка, все быстро начнет чернеть при проявке. В процессе экспозиции иногда применяются нестандартные приемы. Например, можно рукой частично перекрыть светопоток в той части кадра, которая кажется слишком прозрачной. При этом рукой или предметом надо непрерывно двигать, чтобы не получить проекцию неподвижной тени. Существовало множество подобных уловок, призванных улучшить не слишком удачно снятый кадр. Экспозиция завершается, когда выключателем гасится лампа. Бумага вынимается из рамки и погружается в кювету с проявителем. Кювету слегка наклоняют, погружая край листа так, чтобы обратная волна быстро и равномерно намочила всю поверхность. Теперь надо покачивать кювету и наблюдать за ходом собственно «проявления» – появления изображения. В момент, когда кажется, что достигнуто оптимальное качество картинки, бумагу вынимают, промывают в кювете с водой (она стоит посередине между проявителем и закрепителем) и затем погружают в раствор фиксажа. Там фотография должна полежать минут 10—15, после чего ее можно вынуть, снова промыть и вынести на свет божий, чтобы всем показать полученный результат. Потом фотографии сушат – иногда просто развешивая или раскладывая, иногда – глянцуют, накатывая резиновым валиком на стекло, предварительно обработанное спиртом. Завершается процесс обрезкой краев фотоснимка, если в том есть необходимость. Для этого применяются резаки, в том числе – фигурные, дающие затейливый резной край фотоснимка.
Согласитесь, что этот процесс настолько отличается от современной цифровой съемки на телефон с мгновенным просмотром результатов, что следует признать: это два совершенно разных по всей своей философской сути не только вида деятельности, но и явления. Столь радикальное отличие процесса рождения и появления фотоизображения делает и сами фотоизображения отличающимися друг от друга на квазирелигиозном уровне – как священное и профанное.
Игру в метафоры можно продолжить и иным образом. Те фотографии, которые мы производили сами, погружаясь в вышеописанный процесс, не отличались высоким качеством, они были часто недостаточно резкими, контрастными и т. п. Можно сказать – туманными, но можно и – мистическими (mist – туман по-английски). Современные цифровые фото не требуют никаких знаний и навыков, не говоря о трепете и длительном тревожном ожидании: получится или нет? Современные технологии автоматически выдают превосходное (в техническом отношении) качество изображения. То есть снова возникает мысль о двух процессах и их результатах – профанном (ясном, рациональном, технологичном) и сакральном (мистическом, многозначном, непредсказуемом по своему появлению на свет и неопределенном по результату).
Приведу пример одного из ранних (1956) года опытов Павлика, забавный тем, что на один и тот же кадр фотопленки произведено две фотосъемки (рис. 67). Такое было возможно в фотоаппарате «Смена», в котором перемотка кадра осуществлялась вручную и, если забыть перемотать, то на уже отснятый кадр наложится следующий. На этом кадре две композиции. Одна – я и мама читаем журнал, на другой – Саша или Сережа с баранками на шее. И тот и другой сюжет были отсняты и без наложения, я привожу их в этой книге.
Наряду с любительскими фото в семейном архиве и в этой книге немало фотографий, сделанных профессионалами. Иногда это фотографии, сделанные в фотоателье, нередко – «официальные», сделанные институтским, например, фотографом. Есть и профессиональные фото, сделанные в ходе специально организованной, как сейчас сказали бы, фотосессии. Об одной такой я уже рассказывал в предыдущем томе, но хочу ещё раз о ней вспомнить.
Речь идет о серии фотографий, сделанных за несколько дней до моего рождения, в первых числах июля 1950 года. Папа, мама, Павлик и Сашенька выехали, как они потом рассказывали, на бричке, запряженной лошадью, которую звали Тайга, из учхоза в город. С ними был и фотограф – студент Саша Соколов (об этом имеется запись в маминой «Общей тетради», Павел в цитируемых далее «Воспоминаниях» предполагает иное). По дороге было большое поле с уже высоким овсом. «В овсах» они и фотографировались. Но прежде чем показать фотографии «в овсах», посмотрим на фотографию, очень похожую, как будто из той же серии, но это другая съемка, происходившая в июне 1950 г. (фото 68). Фотографировал, думаю, папа сам. Возможно, тогда и пришло в голову организовать фотосессию, пригласить фотографа и нарядить детей.
А теперь перейдем к знаменитой – во всяком случае, в пределах нашей семьи и в кругу близких родственников – серии фотографий «в овсах» (рис. 69—72). Мы любили рассматривать эти фотографии спустя годы и десятилетия, снова и снова вспоминать отдельные эпизоды. В детстве я огорчался, что «меня тогда ещё не было», но потом смирился… В своих «Воспоминаниях» Павел уделил этому эпизоду абзац.
Мы ехали на тарантасе, мама записала даже кличку лошади – Тайга. Снимал нас папа, либо один из сотрудников института, известный как хороший фотограф. На набережной Волги в беседке фотографировал уже папа. Саша очень не любил фотографироваться и закрывал глаза, чтобы его не снимали. Взрослым легко удавалось его перехитрить. Саша не мог долго стоять, зажмурившись, вскоре он открывал глаза, и его тут же фотографировали. Как правило, он понимал, что его обманули, и громко плакал. Это также сохранилось на карточках. В те годы у него были длинные светлые волосы, некоторые взрослые думали, что перед ними девочка. Наименее осторожные это и говорили, вызывая у Саши горькие слезы. Было немыслимо предположить, что через несколько лет его волосы станут толстыми и черными, а их хозяин будет развлекать одноклассников на уроках труда, подравнивая себе прическу слесарными кусачками.
Два красивых златокудрых ребенка на рис. 69 – мои братья. Сашенька закрыл глаза, не желая фотографироваться. Павличек одет в красивую расшитую красную косоворотку, которую сшила, побывавшая в гостях родственница Ася Малич.
Теперь посмотрим ещё на два портрета. На первом (рис. 70) – Павлик, прищурившийся от солнечных лучей. Все такое русское: и небо, и дали, и овес, и косоворотка, и мальчик…
На следующем снимке (рис. 71) портрет Сашеньки. На этот раз его все-таки удалось застать на мгновение врасплох: не успел ни заплакать, ни закрыть глаза.
А вот и вся семья, погрузившаяся в овес: Павличек сел поближе к маме, Сашенька – на коленях у папы (рис. 72). Все веселые, здоровые и молодые… А на горизонте можно разглядеть храм в селе Кресты. Он и сейчас там стоит (Крестобогородская церковь). Только все вокруг застроено, в том числе и поле, а мимо храма пролегает Московский проспект.
Эта памятная поездка завершилась в Ярославле, на Волжской набережной, в знаменитой беседке (рис. 73—75).
Новосёлки
После переезда из Днепропетровска в Ярославль в ноябре 1948 года жизнь в бытовом отношении не стала лучше. Пришлось покинуть хорошую квартиру в центре Днепропетровска, лишиться привычного круга друзей и знакомых… И вместо этого оказаться в совсем иных – несопоставимо худших! – жизненных условиях в пригороде Ярославля – Новосёлках, поскольку там находился Учхоз: Учебное хозяйство Ярославского сельхозинститута. Только там институт смог предоставить хоть какое-то жилье. Туда со всем имуществом и переехали. А велико ли было имущество? Как ни странно, но на этот вопрос можно дать ответ, потому что в семейном архиве сохранился удивительный документ: опись перевозимого имущества (рис. 76). Вот чем владела семья Белкиных (орфография подлинника сохранена).
О П И С Ь
Домашних вещей гр. Белкин Николай Иванович со ст. отправления Днепропетровск на ст. назначения Ярославль.
1. Место; Пионино б/у; 3000 руб.
1. -“-; Шифанер зеркальн. б/у; 1000 р.
4 места; места ящики с книгами; 2000 р.
1 место стол обеденный; 1 место стол обеденный; 200 р.
Кровати английские с сетками; 2 шт. б/у; 400 р.
Кровать железная с сеткой; 200 р.; Итого; 6 800 р.
Всего на сумму шесть тысяч восемьсот рублей.
Отправитель (подпись)
Днепропетровск, 29 октября 1948 г.
Пианино и его непростая судьба во второй части удостоилось отдельной главы, и повторять его историю здесь не буду. А про его будущее – расскажу здесь, не полагаясь на ещё не написанные воспоминания. Этому «пианино-путешественнику», изготовленному в Одессе, обретенному в Днепропетровске, через десять лет предстоит снова отправиться в контейнере вместе с другими вещами в город Кишинев. Здесь оно простоит лет двадцать пять, но его уже мало беспокоили. Так, время от времени кто-то (преимущественно из гостей) побренчит – и все. Настал день, когда, несмотря на такую биографию, несмотря на то, что этот инструмент стал просто-напросто членом семьи, я его продал. За 75 рублей. Произошло это в восьмидесятых годах. Бригада из шести кандидатов наук (Синяк, Белоусов и другие), надрываясь из последних сил, смогла вытащить его из дома, погрузить на грузовик, отвезти в комиссионный магазин и выгрузить. Пропили после этого не всю выручку – рублей двадцать пять удалось принести домой. Честно говоря, пианино жалко до сих пор. Я очень привязываюсь к вещам. Антропоморфизм как взгляд на мир присущ мне на бессознательном уровне.
Про «шифанер» – тоже скажу, поскольку люблю описывать те предметы, которые меня окружали и окружают. Это слово сейчас почти вышло из употребления и повсеместно заменено на «платяной шкаф». Уловить тонкие отличия «шкафа» от «шифоньера» непросто (признаться, и не нужно, – но если хочется…). Это слово происходит от франц. chiffonnier «шкафчик (для белья)», от chiffon «тряпка, тряпьё». Сейчас, когда пытаются описать отличия, придумывают разные признаки. Одни пишут, что у шифоньера непременно должно быть зеркало (что неверно), другие, что его отличительной особенностью является наличие выдвижных ящиков, что тоже не всегда так. Не буду участвовать в умножении толкований, скажу лишь, что шифоньер – разновидность шкафов. Шкаф для одежды и есть шифоньер. Одно слово (Schaff) пришло из немецкого языка, другое – из французского. Только и всего…
Наш шифоньер был двухдверным платяным шкафом. Одно отделение – пошире – для одежды, второе – поу?же, со вставкой-окошечком из стекол с фацетом (обработанными гранями) – с полками для белья. Эта дверца плоховато держалась, и стеклышки при каждом повороте дверцы позвякивали. Но сам шифоньер был довольно крепким: мы на него залезали и прыгали со шкафа на кровать. Шифоньер – как и пианино – приехал из Днепропетровска, но из Ярославля в Кишинев ему отправиться не довелось: его кому-то подарили.
Упомянутая в описи кровать – полуторная, очень старая, с металлическими спинками с облупившейся масляной краской. Та часть, на которой спали, являла собой пружинный матрац, положенный поверх металлической «диагональной» сетки. Видимо, не все у этой кровати было исправным, потому что матрац снизу подпирали ещё и коробки, или чемоданы. Что имели в виду под названием «кровати английские» – не знаю, но железные детские кроватки были. С этим имуществом семья Белкиных и приехала в Ярославль.
В Новоселках отцу предоставили две комнаты в каменном доме, принадлежавшем до революции графу В. Н. Коковцеву, министру финансов и премьер-министру Российской империи, уже встречавшемуся нам на страницах этих воспоминаний. Вот как эти комнаты и сам дом описывает в своих «Воспоминаниях» Павел:
Наша квартира, естественно, без удобств, была на втором этаже и состояла из двух комнат. В первой комнате перегородкой отделялась маленькая прихожая, она же использовалась как кухня. Вторая комната (спальня) имела балкон, ее редкой особенностью была стенка, покрытая желтым мрамором.
Кроме кроватей (родительских) там был лишь какой-то стол и, может быть, этажерка. В первой комнате стояли пианино, большой обеденный стол, с которого я стащил скатерть, печка, стулья и высокий комод.
Первые годы жизни отопление было исключительно печное, причем в спальне печки не было. Не помню, чтоб я замерз, но маленький Сергей точно простудился около балконной двери, вероятно, недостаточно утепленной на зиму. Я ее запомнил по большой карте Африки, которой заклеили дверь. Некоторые слова я уже читал, запомнились Египет, Ангола и Англо-Египетский Судан, выделяющиеся своими цветами на зеленых и лиловых пространствах, которые доминировали на континенте в ту колониальную эпоху. Потом, ориентировочно в 1950 году, нам провели паровое отопление. Мое внимание очень привлекала газовая сварка, на которую смотреть запрещалось, но выполнить полностью это предписание не сумел.
Дом графа был двухэтажным с несколькими входами-выходами. На рис. 77 видна его тыльная сторона. Продолжим цитирование:
Сколько семей жило в разных местах нашего дома, вспомнить нелегко. Если входить с улицы к нам, то на первом этаже был магазин, в котором продавались и продовольствие, и промтовары. На втором, кроме нас, жила семья профессора-энтомолога Брандта. У них была коллекция насекомых, которые меня не очень заинтересовали. Саша запомнил настенный коврик, который нам подарила его жена – художница. (Прим. С.Б. – о Нине Брандт я пишу в главе «Письма». ) На холсте, обшитом какой-то широкой темно-коричневой каймой, была нарисована маслом Красная Шапочка в лесу. Я же запомнил лишь женщину, сочинявшую детские сказки и читавшую их мне с целью апробации на знакомом ребенке. Сказки я искренне хвалил, но все же чувствовал, что они чем-то отличаются от тех, которые мне читали другие.
Мимо нашей квартиры шла узенькая лестница вверх, где жила тетя Фая с дочерью Алей и сыном Вовой. Там же жила некая Капа, которую я совсем не помню внешне, но о ней очень много говорили как о большой моднице. Вовка с гордостью показывал мне ее туалетный столик, на котором среди разных побрякушек лежал флакон с зеленым одеколоном (или духами?), изготовленный в форме грозди винограда. Аля была старше меня, она училась в школе и частенько учила уроки на лестнице, повторяя тихонько текст учебника. От нее я услышал впервые слово «Европа», конечно, засмеялся. Мои фонетические ассоциации Але были вполне понятны, но она меня заверила, что написано именно так. Запомнилось мне и какое-то застолье у тети Фаи, где я сидел с взрослыми, и мне налили стакан коричневой, вкусной браги. В центре стола стояла большая ваза с хлебом, который все доставали, накалывая на вилку.
Второй вход в дом с крыльцом приводил в правление учхоза. Именно там мы прятались, когда на площадку перед этим входом выскочил сорвавшийся с цепи разъяренный бык по кличке Пилот. Хорошо помню, как пошатнулся сарай после удара его могучего лба, а затем пришла зоотехник Елена Петровна Сташко и навела порядок. Вся деревня знала, что она не боится ни собак, ни быков. Ее спокойные, ласковые слова укрощали всех животных; также покорно пошел за ней и бык.
Третья дверь принадлежала директору учхоза Шайхутдину Гайнуддиновичу Гильматдинову и вела в его квартиру. Я помню его дочку Карину, наши мамы хотели, чтобы мы играли вместе. Однако этого не случилось, вероятно, из-за разницы в возрасте. Она была старше. Не способствовало сближению и мое поведение. Шаловливые мамы как-то начали просить меня поцеловать Карину, но услышали в ответ, что я брезгую. Карина меня ничем не отталкивала, но мне очень хотелось употребить взрослое слово, как выяснилось потом, не совсем правильно понимаемое.
Четвертая дверь вела в квартиры нескольких семей: Сурниных, Пахомовых и других преподавателей Ярославского сельскохозяйственного института. Пятая дверь открывала дорогу к лестнице, ведущей на второй этаж. Там жили Елена Петровна с пожилой мамой, Маргаритой Георгиевной, Лебедевы, еще кто-то, и кинозал. Именно на лестнице к ним кто-то из мальчишек показал мне экспериментально, что все кошки в падении легко переворачиваются на ноги.
Между кинозалом и нашей квартирой была дверь. Прежде чем ее заделали, к нам могли заглядывать зрители перед сеансом, даже тогда, когда все уже укладывались спать. Конечно, регулярной демонстрации кино не было, однако, несомненно, показывали «Молодую гвардию» (первую серию видел и я) и «Радугу» – по разговорам взрослых избыточно жестокий фильм про войну.
Воспоминания Павлика – самое ценное и достоверное из всего, на что я мог бы опереться при подготовке этой книги. Читаю я их сейчас, конечно, со слезами на глазах и щемящим чувством благодарности. Продолжу цитирование воспоминаний Павла:
Одни из самых ранних воспоминаний – красивые снегири за окном. Мы наряжаем елку в спальне – потом ее ставили только в первой комнате. За окном солнечный морозный день. Остается ночевать у нас Владлен, его укладывают на три стула около печки. Вечером приходит с работы отец, уже темно, но он идет со мной кататься на лыжах по замерзшему пруду или на санках с горки на лед другого пруда, заставляя меня поднимать их вверх. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Отсутствие Саши позволяет предположить, что он был еще очень маленьким.
Летних воспоминаний тоже много, хотя в июне мама, как правило, увозила нас к дяде Коле в Сад (пос. Южный, впоследствии город, Харьковской области). Возвращались мы обычно с папой. Запомнилась прогулка с Владленом в ближний лес. Часть пути он меня нес, показал, как прятаться от дождя под кустом и как выглядят ядовитые волчьи ягоды. Чаще, конечно, гуляли с мамой, но немало и без взрослых. Около пруда на склоне у нас был огород, я помогал папе сажать лук, морковь и репу. Репку я очень любил, частенько мы с деревенскими мальчишками таскали ее с грядок и поедали, несильно заботясь о чистоте. Достаточно было поболтать в пруду. Играли с нами и Пахомовы – Вова и Надя. Бывали и ссоры. Обычно между одногодками – Сашей и Вовкой. Если за брата заступалась Надя, старше их на год, то уже тогда вмешивался я, еще на год старше. Все заканчивалось ее ревом.
Интересного в учхозе было много. Силосная башня, около нее – малоизвестная ныне забава под названием «гигантские шаги». Колесо на вершине столба, способное вращаться вокруг вертикальной оси. От колеса спускаются веревки, на которых можно не только висеть, но и, разбежавшись, вертеться вокруг столба вместе с колесом, отталкиваясь от земли гигантскими шагами. Ну и, конечно, лошади, коровы, козы и другие животные. Всеобщее оживление наступало, когда на практику прибывали студенты, однажды с ними приехал академик Скрябин.
Одно время была у нас свинья Танька, которую закололи, как мне кажется, в декабре. Во всяком случае, было холодно, пруд замерз. На его берегу мясник ударил свинью бревном и положил в костер. Разделывал он ее долго, у меня и других мальчишек особого интереса это не вызвало. Хотелось лишь подержать его ножи, но это не удалось. Несколько дней шло приготовление колбас, «сальтисона» (этого слова нет ни в одном из моих словарей, пишу на слух, как говорили бабушка и теща) и многого другого, столь же вкусного.
Дом этот стоит и по сию пору, недавно появилась надежда на его реставрацию и, возможно, восстановление парка с каскадом из трех прудов, его окружавших (см. Егорова Т. С. Новым Годом, старая усадьба! // «Северный край», Ярославская областная газета, 12 января 2010 г.). Добавлю и рассказ Павла о его посещении «нашего дома» уже в новейшее время – в июле 2020 года. Две фотографии из этой поездки размещу здесь. На первой (рис. 78) – Павел стоит под «нашим» балконом. Справа – Алексей Белкин, внук Павла.
В письме от 12 июля 2020 года Павел вспомнил эпизоды из детства, связанные с этим балконом:
Я вышел туда в домашних тапочках, которые были связаны из не слишком толстой верёвки. Очень хотелось погрузить ногу в корыто с дождевой водой, которую мама собирала для стирки. Знал, что нога промокнет, но это нимало не тревожило в летний день. Так и сделал. Ощущение оказалось скорее приятным. Свидетелей не было.
Второе воспоминание – это разговор папы с проходившим мимо хозяйственником (иного названия придумать не могу). Папа просил у него железо, «пару листиков». Вскоре получил и с гордостью нам поведал, что из него удалось сделать очень нужные вещи. Одна из них – это домашняя печка типа буржуйки и трубы к ней.
Вторая фотография (рис. 79) – в «нашей» комнате, ныне ставшей музеем Коковцевых. На этом фото Павел с директрисой музея Г. И. Сенюковой.
Вот ещё одна цитата из письма Павла:
Значительную часть перегородок, которые существовали в наши времена, убрали. В нашей спальне ремонт сделали, только она теперь соединена с ранее отгороженной комнатой, где жили то ли Пахомовы, то ли кто-то ещё из сельхозинститута. Дверь на наш балкон заперта, туда по понятным причинам не ходят. Лепнина под потолком во всех комнатах сохранилась с дореволюционных времён. Трубы парового отопления проводили у меня на глазах, кажется, в 1950 году.
Заглянул в соседнюю комнату, тоже нашу. Там идёт ремонт, пустота. Печки, у которой спал Владлен, а нас купали в корыте, давно нет. Вероятно, её разобрали сразу же после нашего выезда. Именно в этой комнате стояла этажерка, большой стол в центре, а между двумя окнами новогодняя ёлка и радиоточка в виде знаменитой чёрной тарелки. Я посетил наш дом с папой летом 1957 или 1958 года. Мы заходили в нашу квартиру, в то время там был детский садик.
Горько мне перечитывать это письмо… Через месяц после его получения я приехал в Кострому, мы отметили 75-летие Павла. Он, как всегда, был молод, здоров, полон планов. А через 5 месяцев его не стало: коронавирус. Горько сознавать, что эту книгу он не увидел, хотя в работе над рукописью принимал самое активное участие с самых первых моих опусов в конце 1990-х годов вплоть до редакции 2019 года. Он читал текст, вносил поправки, делал исправления, уточнения и замечания. Его соучастие придавало мне сил и уверенности в том, что я это пишу не напрасно. Теперь, когда не стало моих братьев, меня поддерживают память о них и вполне религиозное по своей сути ощущение не прекратившегося общения.
Вернусь к повествованию. Итак, Белкины переехали в Учхоз Новоселки и погрузились в ожидавшие их трудности быта. Впрочем, большинству населения жилось нелегко: время послевоенное. Жилья не хватало, у многих не было не то что квартир, но даже своей отдельной комнаты в коммуналке. Некоторые занимали всего лишь угол в общей с другими комнате. Так что какого-то особого трагизма в положении нашей семьи не было. К тому же отец был, несомненно, человеком волевым, мужественным, умным, умелым и опытным. Он шаг за шагом начал все заново. Великое счастье – и для него, и для всей семьи – было то, что во всех трудностях рядом с ним была любимая и любящая жена, наша мама. Она взяла на себя всё что смогла: и воспитание детей, и домашние хлопоты. Важную роль играла и теща – бабушка Люба. Она приезжала по очереди ко всем своим детям – дочерям и сыновьям, – когда рождались внуки и внучки, когда требовалась ее помощь. Приехала она и в Новоселки.
В конце 1949-го или в начале 1950-го, стало ясно, что в семье возможно появление третьего ребенка. Павел вспоминал об этом периоде так:
В какой-то момент вечером, в спальне, родители сообщили, что у нас будет маленький братик (интересно всё же, почему не сестричка?). Нас это привело в очевидный восторг, и мы немедленно дали ему имя Сергей. Относительно недавно узнали, что у старшей дочери дяди Коли – Аллочки – родился сын Сергей. Спрашивается, а мы чем хуже? Родители посмеялись и утвердили. Сергей родился в железнодорожном роддоме у вокзала, мы гуляли около пруда и долго ждали, когда же мама с ним приедет. Запомнилось, что папа ждал с нами, если я не путаю.
С первых дней многие соседи отмечали маленького братика как существо, очевидно, превосходящее нас во всех отношениях. Он и крупнее, и здоровее, и умнее. В экипировке Сережи появились штанишки-мишки, которых у нас, кажется, не было. Сегодня этот вид одежды называют ползунки. На его день рождения 09.07.51 явились некоторые соседи, подарили подарки, из которых я запомнил лишь разноцветную пластмассовую погремушку.
Каким был братик Павлик летом 1950 года видно на фото 80. На этой групповой фотографии, сделанной, наверное, папой, Павлик – крайний слева. Остальных детей я опознать не смогу, но ясно, что это те самые соседские ребятишки, о которых Павлик писал в своих воспоминаниях. Старая ива, склонившаяся над водой пруда, тоже вошла в воспоминания.
Я родился!
То, что я родился, несомненно, относится к разряду случайностей. Если учесть, что у родителей уже были два сына, да еще был старший сын отца от первого брака, то к моему появлению на свет можно было особо и не стремиться: род продолжен, семья большая. Но любовь решила по-своему. Случилось это событие 9 июля 1950 года в железнодорожной больнице города Ярославля. Почему именно в этой больнице? Думаю, потому что именно в ней было ближайшее к дому родильное отделение. Если из Новосёлок по Суздальскому шоссе направиться в город, то по дороге, но уже в городской черте, будет «Дорожная клиническая больница станции Ярославль». Она и сейчас там стоит. Не знаю, сохранила ли она статус железнодорожной. Но раньше система железных дорог неслучайно называлась государством в государстве, поскольку обладала обширной автономной инфраструктурой, состоявшей из медицинских учреждений, школ, производственных мощностей и всего прочего. Отметим, что моё случайное появление на свет именно в железнодорожной больнице теперь, спустя десятки лет и множества событий, выглядит символичным: всю жизнь я прямо или косвенно оказываюсь связан с железной дорогой и ее учреждениями.
Вот первая запись раздела «Серёженька» маминой «Общей тетради», к которой я ещё не раз буду обращаться (рис. 81): «Родился Серёженька: 4 кгр – вес, длина – 53 см. 9 июля 1950 года в 8 часов утра».
Сохранился и самый первый в моей жизни документ, выданный ещё в родильном отделении (рис. 82). Имени у меня пока еще не было: просто – «мальчик».
Сведения о новорожденном
Ф. И. О. Белкина Людмила Павловна
Адр. Учхоз Новоселки
Должн. Жена научного работника
Сельско-хозяйственного института
Млад. род. 9/VII-50 г. мальчик.
Вес реб. при рождении – 3950,0
Вес реб. при выписке – 3960,0
Заб. реб в род. доме не было
Врач: /подпись/