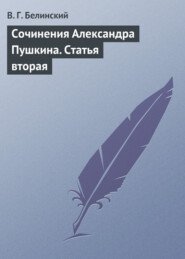 Полная версия
Полная версияСочинения Александра Пушкина. Статья вторая
Стих Жуковского неизмеримо выше стиха всех предшествовавших ему поэтов: он исполнен мелодии и вместе с тем какой-то сжатой крепости и энергии. Такого стиха требовали содержание и дух поэзии Жуковского. И, несмотря на то, еще многого недоставало этому стиху, он еще далеко не совсем свободен, не совсем глубок. Содержание поэзии Жуковского было так односторонне, что стих его не мог отразить в себе все свойства и все богатство русского языка. Батюшков тоже не мало сделал для русского стиха; но, несмотря на соединенные заслуги этих двух поэтов, создание вполне поэтического и вполне художественного стиха предлежало Пушкину. Кроме односторонности содержания поэзии Жуковского, не должно еще забывать, что поэтическая деятельность его двойственна: в одной он является как романтик, самобытен и оригинален; в другой – под влиянием предшествовавших ему поэтов и, особенно, под влиянием идей Карамзина. Правда, он и в патриотические стихотворения, и в послания внес что-то свое, ему собственно, как романтику, принадлежащее; но стих в этих пьесах все-таки отзывается более или менее фактурою старых мастеров нашей поэзии. Попадаются в стихотворениях Жуковского стихи тяжелые и темные, как, например, эти:
Их одобренье нам награда,А порицание – оградаОт убивающих дарНадменной мысли совершенства.Иногда расстановка слов напоминает Ломоносова, как, например:
А ты, дарующий и трон и власть царям,Ты, на совете их седящий благодатью,Ознаменуй твоей дела мои печатью.Есть, наконец, стихи (правда, их поискать да поискать), в которых веет дух Хераскова, как, например:
Бегут во прах и гром, и шлем, и щит,Впреди, в тылу, с боков и рядом (?) страх бежит.{48}Жуковский не мог не иметь сильного влияния на Пушкина, но, в свою очередь, и Пушкин имел сильное влияние на Жуковского: все стихотворения, написанные им уже по истечении второго десятилетия текущего века, отличаются несравненно лучшим языком и стихом. К общим недостаткам поэзии Жуковского принадлежит часто невыдержанность в целом: редкая пьеса его не теряет много из своего достоинства отсутствием сжатости и всего лишнего. Превосходная элегия «На смерть королевы Виртембергской» может служить образцом этого недостатка: в ней есть лишние куплеты, замедляющие, без нужды, развитие главной мысли и своею растянутою прозаичностью ослабляющие впечатление целого.
Неизмерим подвиг Жуковского, и велико значение его в русской литературе! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзии элевзинскою богинею Церерою;{49} она дала русской поэзии душу и сердце, познакомив ее с таинством страдания, утрат, мистических откровений и полного тревоги стремления «в оный таинственный свет», которому нет имени, нет места, но в котором юная душа чувствует свою родную, заветную сторону. Есть пора в жизни человека, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливым порыванием без цели, когда горячие желания с быстротою сменяют одно другое и сердце, желая многого, не хочет ничего; когда определенность убивает мечту, удовлетворение подсекает крылья желанию, когда человек любит весь мир, стремится ко всему и не в состоянии остановиться ни на чем; когда сердце человека порывисто бьется любовью к идеалу и гордым презрением к действительности и юная душа, расправляя мощные крылья, радостно взвивается к светлому небу, желая забыть о существовании земного праха. В эту пору жизни человека любовь робка и стыдлива, жаждет одного только сочувствия и удовлетворяется долгим взглядом, таинством присутствия милого существа и за тихое пожатие руки не пожелает полного обладания. Правда, в этой поре много односторонности, много ложного, больше фантазии, чем сердца, и за нею непременно должна следовать пора горького и тяжелого разочарования для того, чтоб человек пришел в состояние понять истину, как она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужным нарядом фантазии; чтоб он мог понять, что вечное и бесконечное является в преходящем и конечном, что идея в фактах, душа в теле… Но эта пора юношеского энтузиазма есть необходимый момент в нравственном развитии человека, – и кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному идеалу фантастического совершенства, – истины, блага и красоты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию – не одну только создаваемую поэтами поэзию, но и поэзию жизни; вечно будет он влачиться низкою душою по грязи грубых потребностей тела и сухого, холодного эгоизма. Пора безотчетного романтизма в духе средних веков есть необходимый момент не только в развитии человека, но и в развитии каждого народа и целого человечества. Средние века были этим великим моментом развития народов Западной Европы, а следовательно, и всего человечества; и этот момент всемирно-исторического развития выразился в искусстве средних веков. Мы, русские, позже других вышедшие на поприще нравственно-духовного развития, не имели своих средних веков: Жуковский дал нам их в своей поэзии, которая воспитала столько поколений и всегда будет так красноречиво говорить душе и сердцу человека в известную эпоху его жизни. Жуковский – это поэт стремления, душевного порыва к неопределенному идеалу. Произведения Жуковского не могут восхищать всех и каждого во всякий возраст: они внятно говорят душе и сердцу в известный возраст жизни или в известном расположении духа: вот настоящее значение поэзии Жуковского, которое она всегда будет иметь. Но Жуковский, кроме того, имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще; одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Сверх того, есть еще и другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковского: благодаря ему немецкая поэзия – нам родная, и мы умеем понимать ее без того усилия, которое условливается чуждою национальностию. Еще в детстве мы, через Жуковского, приучаемся понимать и любить Шиллера, как бы своего национального поэта, говорящего нам русскими звуками, русскою речью…
Сноски
1
Стихотворения Жуковского, т. VI, стр. 30.{50}
2
Стихотворение князя Вяземского.{51}
3
Лучшим произведением. – Ред.
4
Поскольку куешь… (становишься кузнецом). – Ред.
5
Соути, Роберт, английский поэт (1774–1843). – Ред.
6
Исповедание веры. – Ред.
7
Резюме, итог. – Ред.
Комментарии
1
Татарское Иго «распалось», конечно, не «само собою»… Куликовская битва «1380 года не осталась без последствий. Она явилась переломным моментом в борьбе за освобождение Руси от владычества татар. Победа Дмитрия Донского усилила и внутреннее разложение «Золотой Орды».
2
Сравните эту оценку «Истории» Карамзина с более поздней оценкой его исторических воззрений в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Белинский, вскрывая идеологические корни славянофильства, находит их в исторической концепции Карамзина. «Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой. Вот источник так называемого славянофильства…»
3
«Евгений Онегин», гл. II, строфа XXXVIII; вместо «праотцев теснит» нужно «прадедов теснит».
4
К статье Жуковского о Мадонне Рафаэля Белинский вернется в первой части своего обзора «Взгляд на русскую литературу 1847 года».
5
Временем наибольшего влияния Жуковского в русской литературе являются 1815–1817 гг. Но Жуковский не составил особого периода в русской литературе. Мистико-романтическое направление поэзии Жуковского очень скоро поставило его вне «большой» литературы, Уже в «Руслане и Людмиле» (1820) Пушкин пародировал его «Двенадцать спящих дев». В 1824 году на страницах «Мнемозины» (ч. II) В. Кюхельбекер резко, выступил против «туманной» музы Жуковского.
6
Белинский метит в С.П. Шевырева и его сотрудников по «Москвитянину». Шевырев неоднократно делал заимствования из статей Белинского, хотя и воевал с ним, называя Белинского «безымянным» критиком, так как статьи Белинского в «Отечественных записках» не подписывались.
7
См. примеч. 156.
8
Дальше Белинский развертывает свою оригинальную концепцию романтизма. Исходным ее пунктом является своеобразный «антропологический принцип»: «где человек, там и романтизм». Но сущность человека – источник романтизма – изменялась в ходе истории, поэтому Белинский говорит о конкретных формах романтизма, тесно связанных с историческим развитием понятий о чести, любви и браке у различных народов (античность, средние века, новейшее время). Зарождение новейшего романтизма Белинский связывает с «страшными потрясениями и ударами в конце XVIII в.», то есть с Великой французской революцией и тем переворотом в европейской жизни, который она вызвала. Однако от Белинского ускользает социальная сущность романтизма, и поэтому схема развития романтизма носит еще слишком формально-логический характер. Однако, при всех бросающихся в глаза недостатках, концепция Белинского положила конец релятивистским толкам о романтизме и явилась первой попыткой рассмотрения романтизма в историческом плане как целого комплекса проблем, связанных между собой глубоким внутренним единством.
9
Древнегреческая поэтесса Сафо (VII–VI в. до н. э.) была влюблена в юношу Фаона, но, не встретив с его стороны взаимности, бросилась в море с Левкадской скалы.
10
Белинский цитирует диалог Платона «Федра» по книге С.П. Шевырева «Теория поэзии в историческом развитии древних и новых народов», М., 1836, стр. 31–32. Отметим некоторые неточности в цитате. Нужно: «в этом земном мире возможно», «зрелище прекрасного на земле, как воспоминания о красоте горней способствует к тому, чтобы», «… и созерцали их во свете чистом»… «Не внове посвященный».
11
В «Отечественных записках» – «Спокойна ничего…» и т. д.
12
Приводимые Белинским стихотворения из греческой антологии Батюшкова были переведены последним с французского подстрочника, сделанного для него С. С. Уваровым. Впервые были изданы в 1820 году в виде приложения к брошюре Уварова о греческой антологии. В данном случае Белинский цитирует по второму изданию «Сочинений в прозе я стихах» Батюшкова. Спб., 1834, в двух частях (стихи во второй части).
13
Белинский цитирует дальше «Илиаду» в переводе Н. И. Гнедича, изд. 2-е, 1839.
14
В «Отечественных записках»: «Может быть в самый же миг…» и т. д.
15
У Гнедича: «Сын оставался один…» и т. д. (ч. II, стр. 361); через семь строк нужно не «печальные думы», а «плачевные думы».
16
«Людмила» Жуковского появилась в печати в 1808 году («Вестник Европы», № 9).
17
Не в 1813, а в 1812 году.
18
«Алина и Альсим» – перевод баллады Монкрифа (1687–1770).
19
Белинский ошибается, содержание «Вадима» заимствовано Жуковским из другого романа X. Г. Шписа «Die zwolf schlafenden Jungfrauen» (1795–1796).
20
«Эолова арфа» (1814) является оригинальным произведением Жуковского, хотя и написана в духе модной тогда «поэзии Оссиана».
21
В тексте «Отечественных записок»: вместо «Эльвина» дважды ошибочно напечатано «Мальвина».
22
У Жуковского: «Мир для нас прекрасен был?» (т. II, стр. 46).
23
Стих. Жуковского «Мечты» (1812) является переводом «Idealen» Шиллера.
24
Первый отрывок – из стих. Жуковского «Весенние чувства» (1816), второй – из романса «Желание» (1811).
25
Из стих. «К Нине» (1808). Нужно не «Присутствия радость, а «Присутствия сладость», т. II, стр. 191 (см. примеч. 209).
26
Из послания «К Батюшкову» (1812).
27
Белинский имеет в виду свою статью в «Отечественных записках» (1840, № 1) об «Очерках русской литературы» Н. А. Полевого (1839).
28
Стих. «Счастье во сне» (из Уланда) (1816).
29
На самом деле Крылов в ранние годы писал и оды («На заключение мира со Швецией», 1790) и трагедии («Клеопатра», 1785, «Филомела», 1786). Сам Белинский исправил свою ошибку в статье «Иван Андреевич Крылов» (1845). (См. т. II наст. изд.)
30
«К Филалету» (послание Александру Ивановичу Тургеневу») (1807).
31
Первая цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Песня» (1795), вторая из его же стих. «Стансы к Н. М. Карамзину» (1793).
32
Имеется в виду послание А. И. Тургеневу (1813).
33
Из послания «Императору Александру» (1814).
34
Из послания «Государыне великой княжне Александре Федоровне на рождение вел. кн. Александра Николаевича» (1818).
35
«Теон и Эсхин» (1814) – оригинальное произведение Жуковского, выдержанное в традиционных тонах мистического романтизма. «Узник» (1819) – также оригинальное произведение Жуковского, навеянное поэмой «Шильонский узник» Байрона, которую он и перевел несколько позднее, в 1821 году.
36
Этот стих у Жуковского читается так: «И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин…» (т. VI, стр. 94).
37
Из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина, 2-е изд., 1828 г.
38
В «Отечественных записках» – «Гапсбургский».
39
У Жуковского «Скольких бодрых жизнь поблёкла!» (т. IV, стр. 10).
40
У Жуковского: «Будем вечны именами» (т. IV, стр. 11).
41
Среди немецких переводов Жуковского переводы из Гёте (всего 18 стихотворений) занимают, второе место после переводов из Шиллера (см. В. М. Жирмунский «Гёте в русской литературе», Л., 1937, стр. 99). Большинство из них напечатано было в сборнике «Для немногих» (1818) в ничтожном количестве экземпляров. Может быть, поэтому Белинский считал, что Жуковский переводил мало из Гёте.
42
Ж. Байрон «Stanzas for music».
43
Оценка Белинским «Шильонского узника» в переводе Жуковского во многом напоминает восторженный отзыв Пушкина. См. письмо к Н. И. Гнедичу из Кишинева 27 сентября 1822 года. (Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР, т. XIII, стр. 48, ред. тома Д. Д. Благой).
44
«Суд в подземелья» (1832) – отрывок из исторической поэмы Вальтера Скотта «Marmion».
45
«Совершенно забытой, теперь поэмой» называет Белинский «Мессиаду» Ф. Г. Клопштока (1724–1803). Перевод Жуковского относится к 1814 году.
46
У Жуковского: «И красотой картин его пленяся» (т. III, стр. 34).
47
У Жуковского: «И воцарилася повсюду тишина», а следующий стих: «Все спит… лишь изредка в далекой тьме промчится»… (т. II, стр. 87).
48
Все три цитаты взяты из стихотворений Жуковского 1814 года. Первая – из послания «К Вяземскому и Пушкину», вторая и третья – из послания «Императору Александру».
49
Церера – богиня плодородия.
50
Послание «Ивану Ивановичу Дмитриеву». Все цитаты из произведений В. А. Жуковского Белинский приводит по четвертому изданию его стихотворений 1836 года в шести томах. В настоящей ссылке неверно указана страница: нужно 32.
51
Цитата из стихотворения П.А. Вяземского «Старое поколение» (1841).



