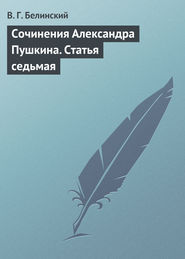 Полная версия
Полная версияСочинения Александра Пушкина. Статья седьмая
Конечно, Пушкин был столько поэт и столько умный человек, что не мог понимать эпос по мерке не только какой-нибудь дюжинной «Россиады», но даже умной и щегольской «Генриады», которых несчастная форма уже слишком устарела и опошлилась для времени, когда он явился. Но в то же время от возможности эпической поэмы в новой форме он не мог совершенно отречься. И потому, естественно, его идеал эпической поэмы заключался в неоклассицизме, или классицизме, подновленном так называемым романтизмом. Художественный такт Пушкина не мог допустить его выбрать содержание для эпической поэмы из русской истории до Петра Великого, и потому он остановился на величайшей эпохе русской истории – на царствовании великого преобразователя России – и воспользовался величайшим его событием – полтавскою битвою, в торжестве которой заключалось торжество всех трудов, всех подвигов, словом, всей реформы Петра Великого. Но в поэме Пушкина, состоящей из трех песен, полтавская битва, равно как и герой ее – Петр Великий, являются только в последней (третьей) песне, тогда как две заняты любовию Мазепы к Марии и его отношениями к ее родственникам. Поэтому полтавская битва составляет как бы эпизод из любовной истории Мазепы и ее развязку; этим явно унижается высокость такого предмета, и эпическая поэма уничтожается сама собою! А между тем эта поэма носит название «Полтавы»; следственно, ее героем, ее мыслию должна бы быть полтавская битва, ибо название поэтического произведения всегда важно, потому что оно всегда указывает или на главное из его действующих лиц, в котором воплощается мысль сочинения, или прямо на эту мысль. Вот первая ошибка Пушкина, и ошибка великая! Но, может быть, нам возразят, что Пушкин совсем не думал писать эпической поэмы и что герой его поэмы – Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возражение тем естественнее, что Пушкин, как говорили и даже писали в то время, сперва хотел назвать свою поэму «Мазепою», но почему-то после, когда приступил к ее печатанию, переименовал ее в «Полтаву». Положим, что это так, но и с этой точки зрения «Полтава» будет произведением ошибочным в ее общности или целом. Какую мысль хотел выразить поэт через эту историю любви, смешанной с политическими замыслами и через них пришедшей в соприкосновение с полтавскою битвою? Неужели эту: как опасно обольщать, особенно на старости лет, юную невинность? И неужели мысль всей поэмы кроется в мелодраматическом смущении Мазепы при виде опустелого кочубеева хутора, мимо которого промчался он с шведским королем с поля полтавской битвы? И стоило ли для такой мысли, конечно очень похвальной и нравственной, но тем не менее слишком частной и нисколько не исторической, стоило ли для нее изображать полтавскую битву и Петра Великого? Не думаем! Конечно, любовь Мазепы к дочери Кочубея имеет историческое значение по отношению к доносу озлобленного Кочубея на Мазепу; но в отношении к полтавской битве она, эта любовь, не более, как эпизод, как историческая подробность, – и полтавская битва имеет огромное значение сама по себе, не только без любви Мазепы, но и без самого Мазепы. Если б поэт главною своею мыслию имел любовь Мазепы, он должен бы полтавскую битву ввести в свою поэму как эпизод, важный только по его отношению к лицу одного Мазепы, оставив в тени колоссальный образ Петра и упомянув разве только о мелодраматической смерти казака, влюбленного в Марию, который ездил с доносом Кочубея к Петру, а в полтавской битве безумно бросился на Мазепу и, насмерть пораженный Войнаровским, умер с именем Марии на устах… Иначе весь эпизод полтавской битвы необходимо должен был выйти какою-то особою поэмою в поэме, без всякого соотношения к любовной истории Мазепы – как оно и действительно вышло, ко вреду целой поэмы. А это ясно доказывает, что Пушкин хотел во что бы то ни стало воспользоваться случаем к созданию чего-то вроде эпической поэмы; полтавская же битва, так кстати пришедшаяся к любовной истории Мазепы, была таким соблазнительным случаем, что поэт не мог пропустить его для осуществления своей мечты. Но в этой мечте о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкого основания «Полтавы», ибо даже из самой полтавской битвы нельзя сделать поэмы. Эта битва была мыслию и подвигом одного человека; народ принимал в ней участие, как орудие в руках Великого, которого понять и оценить могло только потомство и для которого суд потомства едва начался только со времен Екатерины Второй. Вообще из жизни Петра Великого гениальный поэт мог бы сделать не одну, а множество драм, но решительно ни одной эпической поэмы. Петр Великий слишком личен и характерен, следовательно, слишком драматичен для какой бы то ни было поэмы. Сверх того, для поэм годятся только лица полуисторические и полумифические; отдаленность эпохи, в которую они жили, способствует совокупить все известное о их жизни в нескольких поэтических мгновениях. В жизни же исторического лица, не отдаленного от нас пространством веков и чуждыми нам условиями быта, всегда бывает слишком много тех прозаических подробностей, которых нельзя выбрасывать, не впадая в напыщенность и высокопарность.
Итак, из «Полтавы» Пушкина эпическая поэма не могла выйти по причине невозможности эпической поэмы в наше время, а романтическая поэма, вроде байроновской, тоже не могла выйти по причине желания поэта слить ее с невозможною эпическою поэмою. И потому «Полтава» явилась поэмою без героя. Мы уже доказали, что смешно было бы считать Петра Великого героем поэмы, в которой главная и большая часть действия посвящена любовной истории Мазепы. Но и сам Мазепа также не может считаться героем «Полтавы». Байрон, в своей исполненной энергии и величия поэме, названной именем Мазепы, изобразил это лицо исторически неверно; но как он в этом изображении был верен поэтической истине, то из его Мазепы вышло лицо колоссально-поэтическое: там мы видим одно из тех титанических лиц, которые в таком изобилии порождал глубокий дух английского поэта… Но Пушкин, лучше Байрона, знавший Мазепу как историческое лицо, хотел быть верен истории, – ив этом сделал большую ошибку, ибо, скажите бога ради, что за герой поэмы, о котором сам поэт говорит:
Что рад и честно и бесчестноВредить он недругам своим;Что ни единой он обидыС тех пор, как жив, не забывал,Что далеко преступны видыСтарик надменный простирал!Что он не ведает святыни,Что он не помнит благостыни,Что он не любит ничего,Что кровь готов он лить, как воду,Что презирает он свободу,Что нет отчизны для него.Герой какого бы ни было поэтического произведения, если оно только не в комическом духе, должен возбуждать к себе сильное участие со стороны читателя. Если б этот герой был даже злодей, и тогда он должен действовать на читателя силою своей воли, грандиозностью своего мрачного духа. Но в Мазепе мы видим одну низость интригана, состаревшегося в кознях. Чувствуя это, Пушкин хотел дать прочное основание своей поэме и действиям Мазепы в чувстве мщения, которым поклялся Мазепа Петру за личную обиду со стороны последнего. Мы узнаем это из разговора Мазепы с Орликом накануне полтавской битвы:
Нет, поздно. Русскому царюСо мной мириться невозможно.Давно решилась непреложноМоя судьба. Давно горюСтесненной злобой. Под АзовымОднажды я с царем суровымВо стане ночью пировал:Полны вином кипели чаши.Кипели с ними речи наши.Я слово смелое сказал.Смутились гости молодые —Царь, вспыхнув, чашу уронилИ за усы мои седыеМеня с угрозой ухватил.Тогда, смирясь в бессильном гневе.Отмстить себе я клятву дал;Носил ее – как мать во чревеМладенца носит. Срок настал.Так, обо мне воспоминаньеХранить он будет до конца,Петру я послан в наказанье;Я терн в листах его венца.Он дал бы грады родовыеИ жизни лучшие часы,Чтоб снова, как во дни былые,Держать Мазепу за усы.Но есть еще для нас надежды:Кому бежать, решит заря.Нет нужды говорить о художественном достоинстве этого рассказа: в нем виден великий мастер. Все в нем дышит нравами тех времен, все верно истории. Но, хотя этот рассказ и основан на историческом предании, он тем не менее нисколько ни поясняет характера Мазепы, ни дает единства действию поэмы. Можно основать поэму на пафосе дикого, бесщадного мщения; но это мщение в таком случае должно быть рычагом всех действий лица, должно быть целию самому себе. Такое мщение не разбирает средств, не боится препятствия и не колеблется от страха неудачи. Но Мазепа был очень расчетлив для такого мщения, если б он знал, что его измена не удастся, мало того: если б он накануне полтавской битвы, предвидя ее развязку, мог еще раз обмануть Петра и разыграть роль невинного, он перешел бы на сторону Петра. Нет, на измену подвигла его надежда успеха, надежда получить из рук шведского короля хотя и вассальскую, хотя только с призраком самобытности, однако все же корону. Это ли мщение? Нет, мщение видит одно – своего врага и готово вместе с ним броситься в бездну, погубить врага хотя бы ценою собственной погибели. Слова Мазепы, что «русскому царю поздно с ним мириться», могут быть приняты не за что иное, как за хвастовство отчаяния. Петр был совсем не такой человек, который удостоил бы Мазепу чести видеть в нем своего врага и решился бы, даже ради спасения своего царства, мириться с ним: он видел в Мазепе не более, как возмутившегося своего подданного, изменника. Мазепа этого не мог не знать к своему несчастью: он был человек ума тонкого и хитрого. Но если б даже и на мщении Мазепы основан был весь план поэмы Пушкина, то к чему же в ней любовная история Мазепы, если не к тому, чтоб разъединить интерес поэмы?.. Но, может быть, мысль поэта заключается во взаимной любви Мазепы и Марии? Старик, страстно влюбленный в молодую девушку, тоже страстно в него влюбленную, – это мысль глубоко поэтическая, и надо сказать, что Пушкин умел нарисовать ее кистью великого живописца. Некоторые из критиков того времени сильно восставали против возможности и естественности такой любви; но их нападки не стоят не только возражений, даже какого бы то ни было внимания. Эти господа забыли об «Отелло» Шекспира – поэта, который в знании человеческого сердца и страстей имеет, конечно, больший, чем они, авторитет. Но Шекспир представил такую любовь, как факт, не исследуя его законов, потому что другой нравственный вопрос должен был составить пафос его драмы. Наш поэт, напротив, анализирует самую возможность и естественность такого явления. И надо сказать, что в этом отношении он истинно шекспировски внес светоч поэзии во мрак вопроса и дал на него такой удовлетворительный ответ, какого можно ожидать только от великого поэта:
Мгновенно сердце молодоеГорит и гаснет. В нем любовьПроходит и приходит вновь.В нем чувство каждый день иное;Не столь послушно, не слегка,Не столь мгновенными страстямиПылает сердце старика,Окаменелое годами.Упорно, медленно оноВ огне страстей раскалено;Но поздний жар уж не остынетИ с жизнью лишь его покинет.Далее мы увидим, что любовь Марии к Мазепе развита и объяснена еще подробнее, глубже, с мастерством, перед которым невольно останавливается пораженный удивлением читатель. Но на любовь Мазепы к Марии все-таки нельзя смотреть, как на пафос поэмы, ибо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться в его мрачных замыслах. Бегство Марии страшно смутило Мазепу, но оно не имело никакого влияния на ход и развитие поэмы. Смущение Мазепы при виде кочубеева хутора и потом, при виде сумасшедшей Марии, кажется нам мелодраматическою подставкою со стороны поэта. Может быть, это происходит еще и оттого, что после такого события, как полтавская битва с ее следствиями, интерес любви уже не может не ослабеть. Здесь опять видна главная ошибка поэта, хотевшего связать романтическое действие с эпопеею. И вот почему «Полтава» не производит на читателя того единого, полного, совершенно удовлетворяющего впечатления, которое должно производить всякое глубоко концепированное и строго обдуманное поэтическое творение.
Но отдельные красоты в «Полтаве» изумительны. Если «Цыганы» далеко превзошли все предшествовавшие им произведения Пушкина и по идее, и по исполнению, то «Полтава», уступая «Цыганам» в единстве плана, далеко превосходит их в совершенстве выражения. Из всех поэм Пушкина в «Полтаве» в первый раз стих его достиг своего полного развития, вполне стал пушкинским. Критики того времени не без основания придирались к двум или трем неправильно усеченным прилагательным, которые так неожиданно напомнили собой «пиитические вольности» прежней школы, например: сонну вместо сонную, тризну тайну вместо тризну тайную; на несколько смелых нововведений, как, например, в стихе: «Он, должный быть отцом и другом». Но мы укажем и еще на несколько незамеченных ими погрешностей, как, например, на неуместные славянизмы – младой, благостыни, главы, и в особенности на два поражающие своею неточностию выражения: первое в монологе Мазепы против Кочубея, которого, бог знает почему, называет он вольнодумцем, и в разговоре свирепого (и вообще весьма прозаически выражающегося во всей поэме) Орлика, который советует Кочубею на допросе питаться мыслию суровой. Но вот и все. За исключением этого, стихи в «Полтаве» – верх совершенства; по выходе этой поэмы русские в первый раз, в большом сочинении, читали такие стихи на своем родном языке:
Богат и славен Кочубей.Его луга необозримы;Там табуны его конейПасутся вольны, нехранимы.Кругом Полтавы хутораОкружены его садами,И много у него добра.Мехов, атласа, серебраИ на виду и под замками.Но Кочубей богат и гордНе долгогривыми конями,Не златом, данью крымских орд.Не родовыми хуторами:Прекрасной дочерью своейГордится старый Кочубей.И то сказать: в Полтаве нетКрасавицы, Марии равной.Она свежа, как вешний цвет.Взлелеянный в тени дубравной;Как тополь киевских высот,Она стройна. Ее движеньяТо лебедя пустынных водНапоминают плавный ход,То лани быстрые стремленья;Как пена грудь ее бела,Вокруг высокого чела.Как тучи, локоны чернеют,Звездой блестят ее глаза,Ее уста, как розы, рдеют.{11}Но не единая краса(Мгновенный цвет!) молвою шумнойВ младой Марии почтена:Везде прославилась онаДевицей скромной и разумной.Зато завидных жениховЕй шлет Украйна и Россия;Но от венца, как от оков,Бежит пугливая Мария.Обращаясь к отдельным красотам «Полтавы», не знаешь, на чем остановиться – так много их. Почти каждое место, отдельно взятое наудачу из этой поэмы, есть образец высокого художественного мастерства. Не будем вычислять всех этих мест и укажем только на некоторые. Хотя казак, влюбленный в Марию, и есть лицо лишнее, введенное в поэму для эффекта, тем не менее его изображение (от стиха: «Между полтавских казаков» до стиха: «И взоры в землю опускал») представляет собою необыкновенно мастерскую картину. Следующий затем отрывок, от стиха: «Кто при звездах и при луне» до стиха: «Царю Петру от Кочубея» – выше всякой похвалы: это вместе и народная песня, и художественное создание. Кочубей, ожидающий в темнице своей казни, его разговор с Орликом (за исключением того, что говорит сам Орлик) – все это начертано кистию столь широкою, могучею и в то же время спокойною и уверенною, что читатель не знает, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины или ее эстетической прелести. Можно ли читать без упоения, столько же полного грусти, сколько и наслаждения, эти стихи:
Тиха украинская ночь.Прозрачно небо. Звезды блещут.Своей дремоты превозмочьНе хочет воздух. Чуть трепещутСребристых тополей листы.Луна спокойно с высотыНад Белой Церковью сияетИ пышных гетманов садыИ старый замок озаряет.И тихо, тихо все кругом;Но в замке топот и смятенье.В одной из башен, под окномВ глубоком, тяжком размышленье,Окован Кочубей сидитИ мрачно на небо глядит.Заутра казнь. Но без боязниОн мыслит об ужасной казни,О жизни не жалеет он:Что смерть ему? желанный сон.Готов он лечь во гроб кровавый.Дрема долит. Но, – боже правый!К ногам злодея, молча, пасть,Как бессловесное созданье.Царем быть отдану во властьВрагу царя на поруганье,Утратить жизнь и с нею честь,Друзей с собой на плаху весть,Над гробом слышать их проклятья,Ложась безвинным под топор.Врага веселый встретить взорИ смерти кинуться в объятья.Не завещая никомуВражды к злодею своему!..И вспомнил он свою Полтаву,Обычный круг семьи, друзей,Минувших дней богатство, славуИ песни дочери своей.И старый дом, где он родился,Где знал и труд, и мирный сон,И все, чем в жизни насладился,Что добровольно бросил он,И для чего?Ответ Кочубея Орлику на допрос последнего о закрытых кладах был расхвален даже присяжными хулителями «Полтавы», и потому мы не говорим о нем. Кочубея пытают, а Мазепа в это время сидит у ног спящей дочери мученика и думает:
Ах, вижу я: кому судьбоюВолненья жизни суждены,Тот стой один перед грозою.Не призывай к себе жены:В одну телегу впрячь не можноКоня и трепетную лань.Забылся я неосторожно:Теперь плачу безумства дань…В тоске страшных угрызений совести злодей сходит в сад, чтоб освежить пылающую кровь свою, – и обаятельная роскошь летней малороссийской ночи, в контрасте с мрачными душевными муками Мазепы, блещет и сверкает какою-то страшно фантастическою красотою:
Тиха украинская ночь.Прозрачно небо. Звезды блещут.Своей дремоты превозмочьНе хочет воздух. Чуть трепещутСребристых тополей листы.Но мрачны странные мечтыВ душе Мазепы: звезды ночи,Как обвинительные очи,За ним насмешливо глядят,И тополи, стеснившись в ряд,Качая тихо головою,Как судьи, шепчут меж собою,И летней теплой ночи тьмаДушна, как черная тюрьма.Вдруг… слабый крик… невнятный стонКак бы из замка слышит он.То был ли сон воображенья,Иль плач совы, иль зверя вой,Иль пытки стон, иль звук иной —Но только своего волненьяПреодолеть не мог старик,И на протяжный, слабый крикДругим ответствовал тем криком,Которым он в весельи дикомПоля сраженья оглашал,Когда с Забелой, с Гамалеем,И с ним… и с этим КочубеемОн в бранном пламени скакал.Скажите: как, каким языком хвалить такие черты и отрывки высокого художества? Правду говорят, что хвалить мудренее чем бранить! Чтоб быть достойным критиком таких стихов, надо самому быть поэтом – и еще каким! И потому мы, в сознании нашего бессилия, скажем убогою прозою, что если эта картина мучений совести Мазепы может подозрительному уму показаться несколько мелодраматическою выходкою (по той причине, что Мазепе, как закоренелому злодею, так же было не к лицу содрогаться от воплей терзаемой им жертвы, как я краснеть, подобно юноше, от привета красоты), то мастерство, с которым выражены эти мучения, выше всяких похвал и утомляет собою всякое удивление. Сцена между женою Кочубея и ее дочерью замечательно хороша по роли, какую играет в ней Мария. Вопрос изумленной, еще неочнувшейся от сна женщины, которая почти понимает и в то же время страшится понять ужасный смысл внезапного явления матери, этот вопрос: «Какой отец? какая казнь?» – равно как и все вопросительные и восклицательные ответы, исполнен драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотою и спокойствием, которые, в соединении с ее страшною верностью действительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатление, если б творческое вдохновение поэта не ознаменовало ее печатаю изящества. Этот палач, который, гуляя и веселяся на роковом помосте, алчно ждет жертвы, и то, играючи, берет в белые руки тяжелый топор, то шутит с веселою чернью, – и этот беспечный народ, который, по совершении казни, идет домой, толкуя меж собой про свои вечные работы: какая глубоко истинная, хотя в то же время и безотрадно тяжелая мысль во всем этом!
Но что все эти рассеянные богатою рукою поэта красоты – перед красотами третьей песни! И неудивительно: пафос этой третьей песни устремлен на предмет колоссально великий… Тут мы видим Петра и полтавскую битву… Мастерскою кистию изобразил поэт преступные, мрачные помыслы, кипевшие в душе Мазепы; его притворную болезнь и внезапный переход с одра смерти на поприще властительства; гнев Петра, его сильные и быстрые меры к удержанию Малороссии… Как прекрасно это поэтическое обращение поэта к Карлу XII:
И ты любовник бранной славы,Для шлема кинувший венец,Твой близок день: ты вал ПолтавыВдали завидел наконец.Картина полтавской битвы начертана кистию широкою я смелою; она исполнена жизни и движения: живописец мог бы писать с нее, как с натуры. Но явление Петра в этой картине, изображенное огненными красками, поражает читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрым холодом вдохновения, подымающим волосы на голове, – производит на него такое впечатление, как будто бы он видит перед глазами совершение какого-нибудь таинства, как будто бы некий бог, в лучах нестерпимой для взоров смертного славы, проходит перед ним, окруженный громами и молниями…
Тогда-то свыше вдохновенныйРаздался звучный глас Петра:«За дело, с богом!» Из шатра,Толпой любимцев окруженный,Выходит Петр. Его глазаСияют. Лик его ужасен.Движенья быстры. Он прекрасен,Он весь, как божия гроза.Идет. Ему коня подводят.Ретив и смирен верный конь.Почуя роковой огонь,Дрожит; глазами косо водитИ мчится в прахе боевом,Гордясь могучим седоком.Уж близок полдень. Жар пылает,Как пахарь, битва отдыхает.Кой-где гарцуют казаки.Равняясь, строятся полки.Молчит музыка боевая.На холмах пушки, присмирев,Прервали свой голодный рев.И се – равнину оглашая,Далече грянуло ура:Полки увидели Петра.И он промчался пред полками,Могущ и радостен, как бой,Он поле пожирал очами.За ним вослед неслись толпойСии птенцы гнезда Петрова —В пременах жребия земного,В трудах державства и войныЕго товарищи, сыны:И Шереметев благородный,И Брюс, и Боур, и Репнин,И счастья баловень безродный,Полудержавный властелин.Представьте себе великого творческого гения, который столько лет носил и лелеял в душе своей замыслы преобразования целого народа, который столько трудился в поте царственного чела своего, – представьте его в ту решительную минуту, когда он начинает видеть, что его тяжба с веками, его гигантская борьба с самою природою, с самою возможностью готова увенчаться полным успехом, – представьте себе его преображенное, сияющее победным торжеством лицо, если только ваша фантазия довольно сильна для такого представления, – и вы будете видеть перед собою живую картину, начертанную Пушкиным в стихах, которые сейчас прочли… Да, в этом случае живописи стоило бы побороться с поэзиею, и великий живописец мог бы за честь себе поставить перевести на полотно, в живых красках, живые стихи Пушкина, чтоб решить задачу, как воспользуется живопись предметом, столь мастерски выраженным поэзиею. Тут задача живописца состояла бы уже не в творчестве, а только в творчески свободном переводе одного и того же предмета с языка поэзии на язык живописи, чтоб, сравнительно, показать средства и способы того и другого искусства. Повторяем: тут живописцу нечего изобретать – для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра – эта главнейшая задача всей картины… Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование целого народа, за будущность целого государства, это была поверка действительности замыслов столь великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минуты неудач и разочарования, казались несбыточными, как и почти всем его подданным. И потому на лице последнего солдата должна выражаться бессознательная мысль, что совершается что-то великое и что он сам есть одно из орудий совершения.
Но этим еще не оканчивается великая картина; это только главная часть ее; в отдалении поэт показывает другую часть, меньшую, но без которой картина его не имела бы полноты:
И перед синими рядамиСвоих воинственных дружин,Несомый верными слугами,В качалке, бледен, недвижим,Страдая раной, Карл явился.Вожди героя шли за ним.Он в думу тихо погрузился,Смущенный взор изобразилНеобычайное волненье.Казалось, Карла приводилЖеланный бой в недоуменье…Вдруг слабым манием рукиНа русских двинул он полки.В подробностях битвы особенно замечателен эпизод о волнении дряхлого и уже бессильного Палия, завидевшего врага своего – Мазепу. Но эпизод смерти казака, влюбленного в Марию, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполнен мелодраматизма и вовсе неуместен. Мы уже говорили, что самая мысль ввести в поэму этого казака, чтоб было с кем Кочубею отправить донос Петру на Мазепу, мелодраматически эффектна; ради ее поэт исказил историческое событие: донос был отослан не с казаком, а с старым монахом, Никанором.
Картина битвы заключается еще картиною, с которою тоже за честь бы мог поставить себе, побороться, великий живописец:
Пирует Петр. И горд, и ясен,И полон славы взор его,{12}И царский пир его прекрасен.При кликах войска своего,В шатре своем он угощаетСвоих вождей, вождей чужих,И славных пленников ласкает,И за учителей своихЗаздравный кубок поднимает.Теперь нам остается говорить о дивно прекрасных подробностях еще целой части поэмы, пафос которой составляет любовь Марии к Мазепе. Вся эта часть поэмы есть как бы поэма в поэме, и ее, конечно, стало бы на особую отдельную поэму.
В историческом факте любви Мазепы и Марии Пушкин воспользовался только идеею любви старика к молодой девушке и молодой девушки к старику. В подробностях и даже в изображении дочери Кочубея он отступал от истории. Поэтому весь этот факт он переделал по своему идеалу, – и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированною. Он переменил даже ее имя – Матроны на Марию. Когда Матрона убежала к старому гетману, он, боясь соблазна и толков, переслал ее в родительский дом, где мать Матроны катовала (палачила, истязала, секла) ее. Но это, как и естественно, только еще больше раздражало энергию страсти бедной девушки. Мазепа любил ее, писал к ней страстные письма, но в отношении к ней не принял никакого твердого решения: то умолял о свиданиях, то советовал итти в монастырь.

