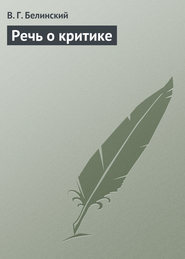 Полная версия
Полная версияРечь о критике
История русской критики та же, что и история русской поэзии и литературы: постепенное стремление из эха господствующих в Европе мнений перейти в самобытный взгляд на искусство. Посему русская критика так же носит в себе элементы всевозможных чужих национальностей, как и русская поэзия. Прежде, а отчасти и теперь, это, с одной стороны, можно ставить ей в недостаток; но со временем из этого недостатка выйдут великие следствия. Мы уже и теперь не можем удовлетворяться ни одною из европейских критик, замечая в каждой из них какую-то односторонность и исключительность. И мы уже имеем некоторое право думать, что в нашей сольются и примирятся все эти односторонности в многостороннее, органическое (а не пошлое эклектическое) единство. Может быть, и назначение нашего отечества, нашей великой Руси состоит в том, чтоб слить в себе все элементы всемирно-исторического развития, доселе исключительно являвшегося только в Западной Европе. На этом условии, на обещании этой великой будущности, наша скромная роль учеников, подражателей и перенимателей не должна казаться ни слишком смиренною, ни слишком незавидною… На том же основании не будем отчаиваться и за нашу критику, видя, что она часто бросается из крайности в крайность и является то чопорным аббатом XVIII века, то немецким буршем с длинными растрепанными волосами на плечах, с трубкою во рту и дубиною в руке, то неистовою вакханкою юной французской литературы, с восторженною речью, блуждающими взорами, бешеными движениями; не будем отчаиваться, видя ее в разноцветной мантии, сшитой из разных лоскутков… Лучше порадуемся, что в ней есть жизнь и движение, что она кипит и пенится… Дайте время, она отстоится… Пока не установилось еще искусство, критика не может быть готова: нашей в особенности много еще нужно фактов, много опытности, чтоб возмужать, окрепнуть и получить собственную, оригинальную физиономию…
Сначала у нас самовластно царила критика французская. Украшенное подражание природе: вот начало, прежде всего усвоенное от французов XVIII века нашею критикою; от себя прибавила она к нему своего собственного – искаженный язык, тяжелый и шероховатый стих и «пиитические вольности». Все это делалось во имя господина Буало, который весьма бы удивился, если б мог узнать, как у нас проказили во имя его. Впрочем, и у нас были люди, более или менее понявшие глубоко французскую теорию искусства, какова бы она ни была. Из них всех примечательнее Мерзляков; но о нем мы еще будем говорить в своем месте, а теперь начнем сначала.
Первый светский поэт на Руси был Кантемир – сатирик. Как литература искусственная и подражательная, русская литература не могла начаться с другого какого-либо рода поэзии, кроме сатиры. Причина этого, сверх того, заключалась и в историческом положении русского общества. Борьба внешнего, формально понимаемого европеизма с родным, веками взлелеянным азиатским варварством не могла не вызвать сатиры. Вследствие этого сатирическое направление Кантемира не было ни случайно, ни вредно, но было необходимо и чрезвычайно полезно. Оттого оно и укоренилось в нашей литературе. Отсюда же можно объяснить, почему Сумароков в массе общества имел гораздо больший успех, чем Ломоносов – человек неизмеримо высший Сумарокова. Направление первого было более ученое и книжное, а второго более жизненное и общественное. Сумароков, желая быть «российским господином Вольтером», писал во всех родах; он же был и первым русским критиком, ибо первый, так или сяк, выражал печатно свои понятия об искусстве и литературе. Это он сделал в предисловии к своему «Димитрию Самозванцу» и в отдельных журнальных статьях, ибо Сумароков был и журналистом – издавал «Трудолюбивую пчелу»… О чем не писало, то есть о чем не высказывало своего мнения живое, раздражительное, беспокойное самолюбие этого человека! Перелистывать от нечего делать его прозаические статьи – истинное наслаждение: столько в них добродушного, наивного, веющего духом того давно прошедшего для нас времени, давно умершего общества! Прозаические статьи Сумарокова столь же интересны и забавны, сколько скучны и тяжелы его вздорные трагедии. Самую интересную сторону литературной деятельности Сумарокова составляет ее полемическое направление, источником которого был его раздражительно-самолюбивый характер, все относивший к себе и все выводивший из себя. Это самое и заставляло его хвататься за все. Он решительно почитал себя российским господином Вольтером и, кроме себя и господина Вольтера, никого не хотел знать, ничьего не признавал авторитета. Он писал к нему о разных литературных предметах и, получая лестные ответы со стороны фернейского оракула XVIII века, еще более уверялся в своем гении и своей всеобъемлемости.
Здесь мы не считаем лишним сделать перечень всему, что написал Сумароков: переложений псалмов – 153; од духовного содержания — 33; торжественных од — 33; разных од — 36; вздорных од (пародии на Ломоносова) – 5; трагедий — 9 («Хорев», «Гамлет», «Синав и Трувор», «Артистона», «Семира», «Ярополк и Димиза», «Вышеслав», «Димитрий Самозванец», «Мстислав»); одну драму («Пустынник»); две оперы («Альцеста», «Цефал и Прокрис»); один пролог («Новые лавры»); один балет («Прибежище добродетели»); комедий 12 («Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», «Нарцис», «Приданое обманом», «Чудовищи», «Тресотиниус», «Пустая ссора», «Рогоносец по воображению», «Мать совместница дочери», «Вздорщица»); притчей — 378; сатир — 10; эпистол — 7; эклог — 65; идиллий — 7; песен и хоров — 126; элегий — 27; стансов — 4; сонетов — 9; эпиграмм, эпитафий, мадригалов, загадок, надписей и разных мелких стихотворений – 216. Это по части стихотворства! А вот и по части прозы. – «Слово похвальное о государе императоре Петре Великом»; «На день коронования ее величества императрицы Екатерины II»; «Е. и. в., государю великому князю Павлу Петровичу»; «Е. и. в., государыне Екатерине Алексеевне, императрице и самодержице всероссийской»; «На открытие императорской Санктпетербургской Академии Художеств»; «На заложение Кремлевского дворца»; «О любви к ближнему»; «На день восшествия на престол е. в., государыни императрицы Екатерины II»; «Мнение во сновидении о французских трагедиях»; «Краткая московская летопись»; «Первый и главный стрелецкий бунт»; «Краткая история Петра Великого»; «Некоторые статьи о добродетели»; «Основание любомудрия»; «О российском духовном красноречии»; «О первоначалии и созидании Москвы»; «Истолкование личных местоимений, я, ты, он, мы, вы, они»; «О несогласии», «О разности между пылким и острым разумом»; «О неестественности»; «Российский Вифлеем»; «О разумении человеческом по мнению Локка»; «О типографских наборщиках»; «О несправедливых основаниях»; «Разговоры мертвых»; письма: «О красоте природы», «О больших беседах», «О гордости», «О скорости и медленности», «О достоинстве», «Четыре ответа», «Об остроумном слове», «О чтении романов», «О некоторой заразительной болезни», «О думном дьяке», «Сон счастливое общество», «О копистах», «Письмо»; «Разговор в царстве мертвых между Александром и Геростратом», «Разговор в царстве мертвых: Кортец и Монтецума: Благость и милосердие потребны героям», «О истреблении чужих слов из русского языка», «О стихотворстве камчадалов», «О коренных словах русского языка», «Части 3 из 1 речи смотрителя» (верно, перевод из какого-нибудь английского зрителя Spectator!), «Пришествие на нашу землю и пребывание на ней Микромегаза; из сочинений г. Вольтера», «Письмо к артиллерии г. полковнику Петру Богдановичу Тютчеву», «К подьячему, писцу или писарю, то есть к такому человеку, который пишет, не зная того, что он пишет», «К несмысленным рифмотворцам», «Сон», «Сон», «Сон», «Блохи», «Перевод письма г. Сумарокова, писанного им же на немецком языке к приятелю», «Перевод эпистолы российским ратникам, писанной на французском языке г. Сентикола», «О казни», «Господину Пасеку: вот наш бывший разговор», «Из Велизария глава 10», «Противуречие г. Примечаеву», «О всегдашней ревности в продаже товаров», «Разговор между ученым и старою женщиною», «Разговор Ирсиккус и Касандр», «Предложение разумным россиянам о принятии нового исчисления времени», «О путешествиях», «О моде», «О правописании», «Примечание о правописании», «Наставление ученикам», «О стопосложении», «Критика на оду», «Рассмотрение од г. Ломоносова», «Ответ на критику», «О происхождении российского народа», «Исмений и Исмена», «О новой философической секте», «К добру или худу человек рождается», «О безбожии и бесчеловечии», «О слове мораль», «О почтении автора к приказному роду», «О происхождении слова царь», «О суеверии и лицемерии», «О пребывании в Москве Монбрана», «Странное обыкновение», «О критике», «О домостроительстве», «Перевод с французского языка из чужестранного журнала месяца апреля 1755 года, стран. 114 и следующие, напечатанного в Париже: Синав и Трувор, российская трагедия, сочиненная стихами г. Сумароковым», «Наставление младенцам: мораль, история и география» (итого 88 статей).
Мы не без намерения привели здесь этот полный перечень сочинений Сумарокова. Такая деятельность изумительна в человеке того времени! Годы и здравый смысл давно уже произнесли свой суд над поэтическими произведениями Сумарокова: их теперь невозможно читать, несмотря на то, что современники ими восхищались. Однакож никак нельзя презирать и судом современников, обязанных сочинениям Сумарокова своею грамотностию и – что особенно важно – своею наклонностию к благородному наслаждению чтением и театром. Следовательно, поэтические сочинения Сумарокова, и не будучи читаемы, должны остаться навсегда фактом истории русской литературы и образования русского общества. Что же касается до собственно литературных статей Сумарокова, они чрезвычайно интересны и для нашего времени, как живой отголосок давно прошедшей для нас эпохи, одной из интереснейших эпох русского общества. Сумароков обо всем судил, обо всем высказывал свое мнение, которое было мнением образованнейших и умнейших людей того времени. Плохой поэт, но порядочный по своему времени стихотворец, характер мелкий, завистливый, хвастливый, задорный и раздражительный, – Сумароков все-таки был человек умный и притом высокообразованный в духе того времени. И потому в его прозаических статьях много фактов о состоянии общества и духе его эпохи. В них он является критиком в многостороннем значении этого слова, как судия не только искусства и литературы, но и мнений и нравов современного ему общества. Посему, говоря о русской критике, мы никак не могли обойти первого (по времени) ее представителя – Сумарокова. Мы должны взглянуть, хотя мимоходом, на те из его сочинений, где он является критиком и полемическим мыслителем. И мы уверены, что после наших указаний многие захотят покороче познакомиться с прозаическими сочинениями Сумарокова и пожалеют, что они изданы Новиковым без толку, без плана, с страшными опечатками и искажениями смысла, без примечаний и что теперь некому издать всех сочинений Сумарокова как следует, а главное – с необходимыми пояснениями и примечаниями. Вообще надо заметить, что компактные дешевые издания старинных русских писателей, игравших в глазах своих современников более или менее важную роль, были бы очень полезны для литераторов, которым необходимо знать основательно историю отечественной литературы и родного языка. В царствование Екатерины было много пишущего народа, и, однако, немногие пользовались огромною известносгию: знак, что в них было нечто соответствовавшее их эпохе и удовлетворявшее ее требованиям. Пусть вкус эпохи бывает иногда ложен, но эпоха всегда важнее человека, и самые заблуждения ее всегда представляют любопытный и поучительный факт для мыслителя. Смешно и жалко видеть бесплодные усилия старичков прошлого века восстановить славу корифеев их юности за счет славы новых талантов; смешно и жалко видеть, как они силятся соблазнить новое поколение умершею поэзиею прошедшего; но в то же время можно уважать имена тружеников, которые своими сочинениями, каковы бы они ни были, размножали в обществе число грамотных людей, возбуждали в нем любовь к благородным наслаждениям и способствовали к произведению того, что называется «публикою» и без чего невозможна никакая литература. Таким образом, желательно было бы видеть издание в одинаковом формате, компактное и дешевое, не только Ломоносова (старинные и неопрятные, притом и не совсем полные издания которого составляют теперь библиографическую редкость), или Державина (смирдинское издание которого так неудачно и так бесполезно, ибо в нем пьесы расположены по родам, а не по времени их явления), или Фонвизина (который издан г. Салаевым довольно толковито, но без переводов этого писателя), или Озерова (которого все издания уже устарели); но и Кантемира и Тредиаковского, Поповского, Сумарокова, Хераскова, Муравьева, Петрова, Богдановича, Княжнина, Кострова, Плавильщикова, Ильина, Иванова, Макарова и других; еще желательнее, чтоб все это было издано с примечаниями и пояснениями, как издают своих старинных писателей французы.
Мы обратим внимание только на те статьи Сумарокова, в которых видны понятия того времени об искусстве или которые, при полемическом тоне, характеризуют общество его времени.
Первое место между такими статьями Сумарокова должно занимать его предисловие к «Димитрию Самозванцу». Тон этого предисловия самый полемический и устремлен против так называвшейся у нас в старину «слезной комедии», что называлась в Европе мелодрамою. Известно, что мелодрамы были в страшном гонении в XVIII веке и тогдашние судьи и теоретики искусства столько же не терпели их, сколько любила их та часть публики, которая ценила литературные произведения по мере доставляемого ими наслаждения, а не по пиитике Буало. Сумароков, в свою очередь, не мог не ненавидеть их, и одна из них, «Евгения», переведенная каким-то московским чиновником, имела значительный успех на сцене, что еще более восстановило против нее ревнивого ко всякому чужому успеху Сумарокова. В его филиппике против этой драмы выказывается и понятие об искусстве знатоков того времени, и нравы общества, и характер самого Сумарокова. Выписываем ее вполне, тем более что она не велика:
Слово публика, как негде и г. Вольтер изъясняется, не знаменует целого общества, но часть малую оного: то есть людей знающих и вкус имущих. Есть ли бы я писал о вкусе диссертацию, я бы сказал то, что такое вкус, и изъяснил бы оное; но здесь дело не о том. В Париже, как известно, невежд не мало, как и везде; ибо вселенная по большей части ими наполнена. Слово чернь принадлежит низкому народу, а не слово: подлой народ; ибо подлой народ суть каторжники и протчие презренные твари, а не ремесленники и земледельцы. У нас сие имя всем тем дается, которые не дворяня. Дворянин! великая важность! Разумный священник и проповедник величества божиего, или кратко богослов, естествослов, астроном, ритор, живописец, скульптор, архитектор и пр.: по сему слепому положению члены черни. О несносная дворянская гордость, достойная презрения и поругания! Истинная чернь суть невежды, хотя бы они и великие чины имели, богатство крезово, и влекли бы свой род от Зевса и Юноны, которых никогда не бывало; от сына Филиппова победителя или паче разорителя вселенной, от Июлия Цесаря, утвердившего славу римскую, или паче разрушившего оную. Слово публика и тамо, где гораздо много ученых людей, не значит ничего. Людовик XIV дал Парнасу златой век во своем отечестве; но по смерти его вкус мало-помалу стал исчезать. Не исчез еще; ибо видим мы оного остатки в г. Вольтере и во других французских писателях. Трагедии и комедии во Франции пишут; но не видно еще ни Вольтера, ни Молиера. Ввелся новый и пакостный род слезных комедий: ввелся там; но там не исторгнутся семена вкуса Расинова и Молиерова; а у нас по теятру почти еще и начала нет; так такой скаредный вкус, а особливо веку великие Екатерины не принадлежит. А дабы не впустить оного, писал я о таковых драмах к г. Вольтеру: но они в сие краткое время вползли уже в Москву, не смея появиться в Петербурге; нашли всенародную похвалу и рукоплескание, как скаредно ни переведена Евгения, и как нагло актриса под именем Евгении бакханту ни изображала; а сие рукоплескание переводчик оные драмы, какой-то подьячий, до небес возносит, соплетая зрителям похвалу и утверждая вкус их. Подьячий стал судиею Парнаса и утвердителем вкуса московской публики!.. Конечно, скоро преставление света будет. Но неужели Москва более поверит подьячему, нежели г. Вольтеру и мне; и неужели вкус жителей московских сходняе со вкусом сево подьячева! Подьячему соплетать похвалы вкуса княжичей и господичей московских, толь маломестно, коль непристойно лакею, хотя и придворному, мои песни, без моей воли, портить, печатать и продавать, или против воли еще пребывающего в жизни автора портить его драмы и за порчу собирать себе деньги, или съезжавшимся видеть Семиру, сидеть возле самого оркестра и грызть орехи, и думати, что когда за вход деньги заплачены в позорище, можно в партере в кулачки биться, а в ложах рассказывать историю своей недели громогласно, и грызть орехи; можно и дома грызть орехи: а публиковать газеты, весьма малонужные, можно и вне теятра; ибо таковые газетчики к тому довольно времени имеют. Многие в Москве зрители и зрительницы не для того на позорище ездят, дабы им слышать ненужные им газеты; а грызение орехов не приносит им удовольствия, ни зрителям разумным, ни актерам, ни трудившемуся в удовольствие публики автору: его служба награждения, а не наказания достойна. Вы путешествователи, бывшие в Париже и Лондоне, скажите: грызут ли там во время представления драмы орехи; и когда представление в пущем жаре своем, секут ли поссорившихся между собою пьяных кучеров, ко тревоге всего партера, лож и теятра. Но как то ни есть: я жалею, что не имею копию с посланного к г. Вольтеру письма, быв тогда в крайней расстройке, и крайне болен, когда князь Козловский, отъезжавший к г. Вольтеру, по письмо ко мне заехал: я отдал мой подлинник, ниже ево на бело переписав; однако ответное письмо сего отличного автора, и следственно отличного и знатока, несколько моих вопросов заключает: а особливо что до скаредной слезной комедии касается. А ежели ни г. Вольтеру, ни мне кто в этом поверить не хочет; так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пити с солью, кофе с чесноком: и с молебном совокупят панафиду. Между Талии и Мельпомены различие таково, каково между дня и ночи, между жара и стужи, и какая между разумными зрителями драмы и безумными. Не по количеству голосов, но по качеству утвержается достоинство вещи: а качество имеет основание на истине.
Достойной похвалы невежи не умалят:А то не похвала, когда невежи хвалят.Затем следует письмо Вольтера в подлиннике. Вот слова Вольтера касательно мелодрамы: «Со времен Ренара, который был рожден с истинно комическим гением и один несколько приблизился к Мольеру, у нас были только одни чудища. Авторы, не способные написать даже порядочной шутки, хотели писать комедии, чтоб только приобретать деньги. Не имея достаточной силы ума, чтоб сочинять трагедии, ни довольно веселости, чтоб писать комедии, – они не умели добиться известности даже между лакеями. Тогда они начали выставлять трагические происшествия под мещанскими именами. Говорят, будто в этих пьесах есть интерес и будто они возбуждают внимание зрителя, если хорошо играются; может быть; впрочем, я никогда не мог их читать; но утверждают, будто актеры производят некоторую иллюзию. Это незаконнорожденные пьесы – ни трагедии, ни комедии; когда нет лошадей, то считаешь себя счастливым, если можешь ехать на мулах».
Похваставшись письмом Вольтера, Сумароков оканчивает свое предисловие следующим рассмотрением содержания «Евгении»:
«Содержание сей слезной комедии есть следующее. Молодой, худо воспитанный и нечистосердечный граф вне Лондона распалился красотою дочери некоего небогатого дворянина и велел своему слуге себя с нею обвенчать: она обрюхатела, а он возвратился в Лондон и, помолвив жениться на какой-то знатной девице, собирается на это сочетание; первая его супруга приехала в его дом: сведала, что сожитель ее с другою браком сочетавается: бегает растрепав волосы: она плачет, отец сердится: в доме иной плачет, иной хохочет: наконец сожитель ее, сей повеса и обманщик, достойный виселицы за поругание религии и дворянской дочери, которую он плутовски обманул, обманывает другую невесту, знатную девицу: входит из бездельства в бездельство: отказывает невесте и вдруг, переменив свою систему, опять женится вторично на первой своей жене; но кто за такова гнусного человека поручится, что он на завтра еще на ком-нибудь не женится, ежели правительство и духовенство его не истребят. Сей мерзкий повеса не слабости и заблуждению подвержен, но бессовестности и злодеянию».
Из самого этого изложения видно, что пьеса «Евгения» самая моральная: повеса раскаивается и браком заглаживает свой проступок; но наш критик никак не хочет простить ему рукоплесканий московской публики и упорствует видеть в нем злодея. Он даже ругнул порядком и актрису за то, что она слишком хорошо играла роль Евгении. Такие критики не редкость и в наше время…
Выражения: «Неужели Москва больше поверит подьячему, нежели г. Вольтеру и мне» и «А ежели ни г. Вольтеру, ни мне кто в этом поверить не захочет» и пр. показывают достаточно, как думал Сумароков о самом себе. В выходках его самолюбия есть какая-то наивность и достолюбезность: это не столько наглое самохвальство, сколько теплая вера в свою великость. В этом отношении особенно забавна его статья «Ответ на критику», которая начинается так: «Не надлежало бы мне ответствовать на сочиненную против меня г. Т. критику; ибо я в ней кроме брани ничего не нашел; однако надо его потешить и что-нибудь на то написать, чтоб он не подумал, что я его так много уничтожаю, что уж и отвечать не хочу». Вот несколько возражений Сумарокова на эту критику, хорошо характеризующих вообще критику того времени:
«Не дивлюсь, говорит он (автор критики), что поступка нашего автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка и с биением сердца». О каком он говорит биении сердца, того я не понимаю, в протчем сия новомодная критика очень преславна!
«Не думает ли он, говорит он обо мне, чего он сам стоит и что и каков тот, против которого он как с цепи спустил своевольную в лихости свою музу?» – Думаю.
Приводя в пример од строфу из некоторой оды г. Л., не узнал он, что автор недремлющими называет очами, хотя то и совершенно изъяснено, что автор недремлющими очами называет звезды, а он подумал, что то сказано о ангелах. А строфа сия очень ясна.
Привязался он к типографским двум погрешностям, как будто клад нашел. Надлежало написать умнож сея, а ошибкою напечатано умнож сей, и вместо удобно напечатано удобной: как же подумать, чтобы первую ошибку кто-нибудь сделать мог, кто хотя немного о стихотворении слыхал, а другую, кто хотя несколько по-русски умеет.
«И хотя оды свойство, говорит он, по мнению авторову, что она
Взлетает к небесам, свергается во ад,И мчася в быстроте во все края вселенны,Врата и путь везде имеет отворенны.Вторая из двух моих епистол. Однако де сие не значит, чтоб ей соваться во все стороны, как угорелой кошке». Я как угорелая кошка не суюсь, а подлому изъяснению, как угорелой кошке, кроме его сочинений ни в какой критике места не нахожу.
Говорит он о мне моими стихами:
Нет тайны никакой безумственно писать,Искусство, чтоб свой слог неправно предлагать,Чтоб мнение творца воображалось ясно,И речи бы текли свободно и согласно.Из второй из двух моих епистол. Я не знаю, к кому сии стихи, ко мне или к нему больше приличествуют. Песенка:
Поют птичкиСо синички,Хвостом машут и лисички.Плюнь на сукуМорску скуку,Держись черней и знай штуку.кажется мне не лутче моих сочинений.
Из последнего возражения ясно видно, что г. Т., написавший на Сумарокова такую грозную критику, есть не кто иной, как профессор элоквенции, а паче всего хитростей пиитических, бессмертный Василий Кириллович Тредиаковский.
Этот, эта, это, за (вместо) сей, сия, сие, имею (почитаю) я за вольность, что в оде положить нельзя, а в трагедиях, в некоторых местах полагать можно, ибо они слова не чужестранные и непростонародные: да я же кладу (употребляю) их очень редко.
Братиев вместо братии, есть вольность же, так же следствиев, и протчее: а братиев есть и весьма вольность малая; ибо хотя братии и правильное, нежели братиев; однако вместо братиев сокращенно братьев еще употребительняе, нежели братии: зело, зело братьев я здесь в угодность ево положил много. А я употреблению с таким же следую рачением, как и правилам: правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют, например: Я люблю сего, а ты любишь другова – есть правильно, но грубо. Я люблю этова, а ты другова. – От употребления и изгнания трех слогов го и гаго слышится приятняе. Вот для чего я это делаю, а не от незнания, как, гневаясь на меня, г. Т. говорить изволит.



