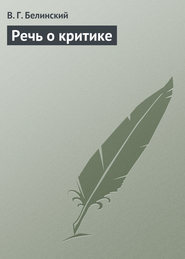 Полная версия
Полная версияРечь о критике
Высказав наше воззрение на искусство и критику и рассмотрев «Речь», подавшую повод к этой статье, – мы, в следующей статье, сделаем историческое обозрение русской критики, от начала ее до нашего времени.
Статья II
Историческое обозрение русской критики
Обозреть исторически ход и развитие русской критики – значит обозреть, в общих чертах, историю русской литературы, ибо, как мы уже сказали в первой статье, содержание критики, как суждение, есть то же самое, что и содержание литературы, как судимого; вся разница в форме. Художники литераторы выражают свое понятие об искусстве и литературе непосредственно, самыми творениями своими; критик выражает свое понятие об искусстве и литературе чрез посредство мысли, сознательно. В этом случае искусство и литература идут об руку с критикою и оказывают взаимное действие друг на друга. Если новый гений открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет за собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар, то, в свою очередь, и движение мысли, совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опереживая и убивая старое. Такое явление было в Германии, где литературный переворот совершился не чрез великого поэта, а чрез умного энергического критика – Лессинга. Так называемая романтическая школа, или юная литература Франции, водрузила свои победоносные знамена на завоеванной ею у псевдоклассицизма почве, едва ли не более при помощи критики, чем собственными усилиями. Жанен, некогда столь даровитый, а теперь столь пустой фельетонный крикун, горячо сражался против мертвой литературы империи еще прежде, чем написал свой роман «Мертвый осел и гильйотинированная женщина». И этот союз искусства с критикою со дня на день становится теснее и неразрывнее. Оттого теперь искусство становится мышлением в образах, а критика – искусством.
Русская литература была не плодом развития национального духа, а плодом реформы. Хотя Петр Великий ничего не писал и не издавал, подобно Екатерине II, но тем не менее он так же творец русской литературы, как и творец русской цивилизации, русского просвещения, русского величия и славы, словом – творец новой России. Написать историю русской литературы, не сказав ни слова о Петре Великом, – это все равно, что написать о происхождении мира, не сказав ни слова о творце мира. Русь до Петра кипела дикими и нестройными силами: его всемощное «да будет!» водворило порядок и гармонию в этом хаосе, дало боровшимся в нем элементам определенную форму и указало им цель. Уже более века прошло после смерти Великого; но Русь все еще движется от него, следовательно, и чрез него. Русь уже давно не та; Петр не узнал бы ее, если б мог взглянуть на нее из своего гроба. Русь уже не та, но и не другая. Так широколиственный дуб совсем не то, что жолудь, из которого он вышел; но он все же дуб, а не береза и не другое дерево; все же он вышел из жолудя и без жолудя не мог бы быть.
Реформа Петра вообще была искусственная, ибо совершилась не в сфере русской жизни и не ее собственными средствами, а посторонним посредством чуждой ей жизни. Однакож это может не нравиться только раскольникам и староверам; в глазах же людей, умеющих проникать в глубь явлений, это-то самое и свидетельствует о колоссальности гения творца новой России. Правда, можно много острого и забавного наговорить, например, о русских мужиках, вдруг, экспромтом, превращенных в подобие цесарских и прусских солдат, с выбритыми бородами, с пучками на затылках, в смешных мундирах XVII века, об этих солдатах, которые с трудом заучивали напамять немецкую военную терминологию, мудреные немецкие чины и звания; сверх того, нарвская битва могла служить прекрасным фактом против преобразований, но зато битва под Лесным заставляет разумников призадуматься, смешаться, прикусить язычок, как выразительно говорится по-русски; а полтавская битва лучше всяких доказательств, теоретических и философских, доказывает, что у гения своя логика, свой здравый смысл, свое ясновидение действительности, которые, чем менее подходят под суждения толпы, тем истиннее и действительнее. Реформа, повидимому, чисто внешняя, повидимому, состоявшая только в формах, могла казаться странною не только для русских, бывших ее жертвою, но и для тогдашней Европы; теория и практика, умозрение и опыт – все, повидимому, было против нее. Несчастное нарвcкое дело походило на порыв урагана, сдувший со стола карточный домик; оно всех убедило в невозможности улучшений – всех, кроме самого реформатора. Но под Лесным обстоятельства переменяются, и для неприятеля настает пролог трагедии, а при Полтаве разыгралась и самая трагедия.
Таким же точно образом много умного и остроумного можно наговорить о новых гражданских литерах, которым нечего было выражать собою; о заведенных им типографиях, которым нечего было печатать; о высших специальных учебных заведениях, когда еще негде было учиться грамоте; о проекте Академии наук, когда еще не было приходских и уездных училищ; словом, обо всем этом неестественном развитии сверху вниз, не снизу вверх, с крыши к фундаменту, не с фундамента к крыше. А между тем это-то и положило прочное основание русскому просвещению, ибо прежде всего дало учителей, без которых ученики не могут учиться. Каково бы ни было наше просвещение, на какой бы ступени не стояло оно и теперь, но надо быть слепым, чтоб не видеть, что оно все развивается, все идет вперед. Иначе, как бы могли у нас являться и полководцы, и моряки, и инженеры, и врачи, и математики? Давно ли было время, когда без иностранцев мы не в состоянии были сделать шагу? А теперь мы нуждаемся в Европе, но уже не в иностранцах; нам надо следить за успехами в Европе наук, искусств и промышленности, но не выписывать оттуда людей для заведения того и другого и третьего, как было прежде. Если же мы и теперь иногда нуждаемся в иностранцах и приглашаем их к себе, то такие случаи уже кажутся теперь исключениями из общего правила.
Не менее дельного, умного и острого можно наговорить (да и было уже довольно наговорено) о русской литературе, возникшей не из потребности общества, а из слепого подражания иностранным литературам.[9] И чего бы, в самом деле, можно было ожидать от этого сколка, списка, от этой копии с чужих образцов, от этого мертвого, бездушного, слепого подражания и передразнивания чужих мыслей и чужих форм? А между тем мы гордимся именами (конечно, еще немногими) национальных и самостоятельных поэтов – Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова… А между тем наша литература имела на общество великое и благодетельное влияние, как живой источник гуманического, человечественного образования…
Странное дело! как же такие живы следствия могли выйти из такой мертвой, чисто внешней, отвлеченно-формальной реформы? Здесь в том-то и дело, что только близорукие, ограниченные люди, да разве еще раскольники и староверы, поборники ложно понимаемой народности и дикого невежества, могут видеть в реформе Петра одно внешнее и формальное. Люди мыслящие, способные проникать взором своего разума в сокровенную глубь вещей, очень хорошо видят, что Петр старался не об одном внешнем европеизме, что он был столько же духовным, сколько и материальным реформатором. Его великий, зиждительный дух был источником его преобразовательной деятельности, – он начал реформу прежде всего с себя самого. Неумолимый к другим, он был еще беспощаднее к самому себе. Поставив идею правосудия выше личного произвола, он готов был бы самого себя отдать под уголовный суд, если б мог умышленно поступить неправо в деле государственной правды. Поставив идею государства выше личного значения, он бодро и неуклонно прошел длинную и тяжкую лествицу чиноначалия, был солдатом, юнгою и с такою страстию подчинялся повиновению, с какою в его возраст предаются обаянию властвования. Счастию России, ее будущности принес он в жертву своего сына, говоря, что лучше чужой да достойный, чем свой недостойный… Он искушал своих сановников, прося у них себе места, следовавшее достойнейшему его по службе, и сказал, что благо им, отказавшим ему в просьбе… Говоря о Петре, многие видят в нем больше реформатора и забывают колоссально-нравственный и религиозный дух, которого вся жизнь была страстным служением идее. А пафос к идее есть живой источник, из которого не могут не вытекать живые результаты. Если б Петр был только необыкновенно умный человек, только политический, а не религиозно-нравственный действователь, его реформа не имела бы таких великих следствий. Глубокое религиозно-нравственное начало, составлявшее основу его духа, в соединении с исполинскою гениальностью, – вот что оплодотворило и оживило реформу Петра, дало ей силу, прочность и жизненность… Но об этом можно было бы написать целую книгу; здесь мы говорим только вскользь, как о предмете, который имеет отношение к главной мысли нашей статьи и не составляет ее прямого содержания. Обращаемся к русской литературе, чтоб от нее перейти к русской критике.
Русская литература началась так же, как и русская цивилизация, – подражанием, слепым усвоением форм. Подобно цивилизации, ее движение и развитие состояли в стремлении к самобытности и национальности, и каждый успех ее был шагом к этой цели. Русская поэзия сперва проблеснула в баснях Крылова, которых форма была заимствованная и подражательная, но в которых, несмотря на то, русский язык и русский практический ум нашли средство развернуться широко, свободно и непринужденно. Но басня есть только род поэзии, и притом созданный XVIII веком, а не самая поэзия. Русская поэзия началась, собственно, с Пушкина. Утверждая это, мы нисколько не думаем унижать блестящие таланты, предшествовавшие нашему поэтическому Протею. Без них не было бы и его, или по крайней мере он был бы далеко не тем, чем был. Каждый из этих талантов был для нашей литературы шагом вперед; и неполнота их успеха заключалась не в слабости дарования, а в незрелости общества, еще не могшего выработать никакого содержания для самобытной поэзии. Пушкин был первый русский поэт в смысле художника. Природная поэтическая сила Державина выше поэтической силы, например, Батюшкова; но как художник Батюшков несравненно выше Державина. Державин, этот богатырь русской поэзии, был связан духом своего времени, которое понимало поэзию не иначе, как торжественною одою на какой бы то ни было случай – на победу или просто на иллюминацию, и которое было уверено, что поэзия «сладостна и приятна как летом вкусный лимонад».[10] Оно требовало от поэзии высокопарности – и больше ничего; оно исключало из нее это внутреннее, субъективное начало, которое впоследствии господствовало в русской поэзии под неопределенным именем элегического тона и без которого нет истинной поэзии. Душа Державина была поэтическая и уже по сему самому не чуждая этого внутреннего, субъективного, задушевного и сердечного начала; и оно у него часто проторгалось, но как бы против его воли, ибо по духу своего времени он не давал ему воли и простора, стараясь постоянно держаться в напряженной торжественности. Прибавьте к этому, что в его время язык русский был крайне необработан, вращался в тяжелых славяно-латинских формах, в которые заковал его Ломоносов; о гармонии и пластике – словом, виртуозности стиха, никто тогда не имел и малейшего понятия; усечения прилагательных, коверкание слов, какофония речений были узаконены самою пиитикою того времени под именем «пиитических вольностей». И вот почему Державин, будучи столь великим явлением в истории русской поэзии и литературы, мертв для современного общества; поэзия же его стала теперь предметом изучения записных литераторов, а не предметом наслаждения для общества, которое как бы едва знает о Державине, и то из пиитик, по которым когда-то училось в лета своего детства. Есть люди, которые, даже не читая Державина, почитают такой взгляд на него оскорблением его имени и чести русской литературы. Но неужели и в самом деле значит унижать Державина, говоря, что его огромный талант явился в неблагоприятное для развития время? Не думаем! И неужели можно унизить великого человека, поставив его в историческую зависимость от времени, от которой не освобождался ни один гений с тех пор, как существует мир? Едва ли!.. Державин – великий талант для всякого времени; но великий поэт он – только для своего времени; а для нашего – едва ли он какой-нибудь поэт, потому что для нас мертвы и идеальные мотивы и самая форма его поэзии. Это уже не наша вина, да и не его, конечно. И мы не виним его, а только судим о нем; пусть же судят и нас, а не делают без вины виноватыми. Жуковский внес в русскую поэзию именно тот самый элемент, которого недоставало поэзии Державина: мечтательная грусть, унылая мелодия, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженного в самом себе, – вот преобладающий характер поэзии Жуковского, составляющий и ее непобедимую прелесть, и ее недостаток, как всякой неполноты и всякой односторонности. Жуковский диаметрально противоположен Державину, и хотя содержание и тон поэзии Жуковского суть экзотические растения в отношении к русской поэзии, переселенцы с чуждой почвы, из-под чуждого неба, однако, вопреки толкам и крикам поборников народности в поэзии, Жуковский – поэт не одной своей эпохи: его стихотворения всегда будут находить отзыв в юных поколениях, приготовляющихся к жизни и еще только мечтающих о жизни, но не знающих ее. Не можем сказать, способствовало ли какое-нибудь внешнее обстоятельство к обращению юного Жуковского, еще ученика в благородном пансионе при Московском университете, к немецкой и английской поэзии; но во всяком случае дух времени был главною причиною этого обращения. Псевдоклассическая поэзия Франции XVII и XVIII веков уже не могла безусловно нравиться юному поколению XIX века, и оно должно было искать других источников эстетического наслаждения. Немецкая литература тогда уже делалась известною самой Франции; в России она могла пленять только немногих юношей, знакомых с ее языком. Не знаем, к сожалению, когда написана Державиным его переделка одной Шиллеровой пьесы (вероятно, с французского перевода или подражания), названная им «Арфою»;[11] не знаем также и времени переделки известной пьесы Гёте Дмитриевым (тоже, должно быть, с французского перевода или подражания), названной им «Размышлением по случаю грома»: знак, что темные слухи о Шиллере и Гёте[12] доходили еще и до патриархов нашей поэзии и что в лице Жуковского, с малолетства знакомого с немецким языком, наша литература сделала естественный шаг вперед, обратившись к новому и более жизненному источнику питания – к немецкой поэзии. Что же касается до английской литературы, с нею наша была знакома еще до Жуковского; сам Карамзин писал о ней в своем путешествии, даже перевел монолог Лира во время бури и отрывок из Оссиана; но о Шекспире, несмотря на то, знали через французов как о варваре, и почетными именами английской литературы считались Поп, Адиссон, Драйден, Томсон, Грей, Юнг, Мильтон, Фильдинг, Ричардсон, Стерн. Жуковский первый перевел своим крепким и звучным стихом несколько (впрочем, очень мало) английских баллад и написал в их духе свою («Эолову арфу»), чем верно передал романтический характер английской поэзии. Когда уже английская поэзия сделалась знакома русской публике и через журнальные толки, и прозаические переводы, Жуковский дал большую прочность и действительность этому знакомству своими переводами из Вальтера Скотта, Байрона, Мура, Сутэя[13] и пр. Это оригинальное (уже по одному тому, что новое) направление, эта обаятельная сила и богатство содержания, заимствованные Жуковским у его немецких и английских образцов, поставили его на высокую чреду между русскими поэтами как самобытного поэта, а не переводчика. Прибавьте к этому неизмеримое пространство, разделяющее язык и стих Жуковского от языка и стиха Державина. Причина этого явления заключается не в одной силе превосходного таланта певца Минваны,[14] но и в историческом развитии русской литературы: между Державиным и Жуковским стоят Карамзин и Дмитриев, которым так много обязан русский язык и русская версификация. Батюшков внес в русскую поэзию совершенно новый для нее элемент: античную художественность, которой, кроме его, были чужды все наши поэты – до Пушкина. Душа Батюшкова была по преимуществу артистическая. Он сочувствовал древним, превосходно перевел несколько антологических пьес, любил образовательные искусства, с страстью писал о живописи. Преобладающий пафос его поэзии – артистическая жажда наслаждения прекрасным, идеальный эпикуреизм; но эта жажда часто растворяется у него кроткою меланхолиею, легкою и светлою грустию. И потому мечтательность у него заменяется задумчивостию, фантазм – радужными образами фантазии; читая его, вы чувствуете себя на почве действительности и в сфере действительности. Кажется, как будто в грациозных созданиях Батюшкова русская поэзия хотела явить первый результат своего развития, примирением действительного, но одностороннего направления Державина, с односторонне-мечтательным направлением Жуковского. Этот результат не был удовлетворителен, потому ли, что талант Батюшкова не был для этого довольно могуч, глубок и многосторонен, или потому, что он слишком увлекался влиянием французской литературы XVIII века и больше любил и знал итальянскую, чем немецкую и английскую словесность, хорошо был знаком с латинскою и, кажется, не знал греческой поэзии. По той или другой причине, или по обеим вместе, но в Батюшкове есть что-то неполное, недоконченное; идеи его не глубоки, содержание его поэзии вообще бедно; самый язык обилует усечениями и вольностями, а художественность часто борется с риторикою. Батюшкову действительно недоставало гениальности, чтоб освободиться из-под влияния своей эпохи. Несчастная болезнь парализировала его талант и деятельность именно перед тем временем, когда на небосклоне русской поэзии взошло ее великое светило, которое не могло бы не иметь на него сильного и благодетельного влияния… Мы говорим о Пушкине, поэзия которого была повершением всех усилий, достижением всех стремлений, плодом и результатом всего искусственного развития русской поэзии. Да, Пушкин – первый, даже и по времени, поэт русский: ибо все, что в предшествовавших ему поэтах было или отдельными силами, или односторонними элементами, или только усилием, или стремлением, – в нем явилось как разрешенная загадка, как уже обретенное слово, как исполнение, как единство, полнота и целость разнообразного и многостороннего. В Державине часто проблескивает русская натура, русская душа: Пушкин везде и во всем национально русский поэт. Парение, возвышенность, сила – все, что у Державина вспыхивает по временам, часто заливаемое тотчас же пресною водою риторики, у Пушкина горит светлым, чистым и ровным пламенем без треска, дыма и чада. Грусть составляет один из основных звуков в аккорде поэзии Пушкина, и потому она придает ей задушевность, сердечность, мягкость, влажность (если можно так выразиться, говоря о противоположном сухости качестве), а не преобладает над нею: это грусть души великой, знающей свою силу; в ней нет ничего общего с унынием – болезнию слабых душ. Кроме того, в грусти Пушкина так много русского, того самого, что так сильно овладевает душою в протяжной и разгульной русской песни. И так как эта грусть составляет только один звук в аккорде поэзии Пушкина, а не целый аккорд, то поэзия Пушкина и чужда всякой монотонности, всякой односторонности. Фантастическое иногда является и в поэзии Пушкина, но оно у него естественно, так как бывает в самой действительности: вспомните сон Татьяны, балладу «Жених». Что же касается до фантазма, его нет и признаков в поэзии Пушкина: душа Пушкина была так крепка и здорова, что не могла подчиниться этому болезненному направлению. А между тем хотя и трудно показать следы влияния Жуковского на Пушкина (ибо почва и сфера поэзии последнего слишком действительны и чужды всего отвлеченного, туманного и неопределенного); однакож нельзя отрицать, чтоб Жуковский не имел влияния на Пушкина, когда тот сам называет его «наставником, пестуном и хранителем своей ветреной музы». Не менее, если еще не более, любил Пушкин сладостные стихи Батюшкова: влияние этой любви ярко заметно на первых произведениях Пушкина. И не могло быть иначе: Пушкин был по преимуществу артистическая натура; следовательно, Батюшков был ему родственнее всех других русских поэтов. Но что такое стих Батюшкова, пластика и виртуозность его поэзии перед стихом, пластикою и виртуозностию поэзии Пушкина! Как поэзия Батюшкова, поэзия Пушкина вся основана на действительности; но какая же бесконечная разница в объеме, глубокости и значении той и другой поэзии! Уж нечего и говорить о том, что поэзия Батюшкова чужда национальности, тогда как поэзия Пушкина по преимуществу русская. Все, что прежние поэты имели каждый порознь, все это Пушкин имел один, имея еще много и своего, чего ни один из них не имел; всем, что обладало прежними поэтами, – всем этим спокойно владел Пушкин. Вот почему мы от него ведем русскую поэзию и называем его первым русским поэтом. Это совсем не значит, чтоб до него не было поэтов, и притом еще достойных внимания, уважения, любви, известности и славы; но значит только, что в них выразились постепенные усилия[15] русской поэзии, начиная от Кантемира и Ломоносова – из искусственной и подражательной сделаться естественною и самобытною, стремление из книжной сделаться живою, общественною, сблизиться с жизнью и обществом; а в Пушкине выразились торжество и победа этих усилий и стремлений. Пушкин – художник в полном значении этого слова; это его преобладающее значение, его высочайшее достоинство и, может быть, его недостаток, вследствие которого он чем более становился художником, тем более отклонялся от современной жизни и ее интересов и принимал аскетическое направление, наконец охолодившее к нему общество, которое дотоле безусловно обожало его. Кажется, в этой натуре не было капли прозаической крови, но все был чистый огонь поэзии. К чему ни прикасался он – всему давал поэтические образы, полные жизни и очарования, всему, даже самым уже по существу своему прозаическим предметам. Его стих – это скульптура, живопись и музыка вместе. К нему безусловно можно приложить его же собственные стихи об Овидии:
Имел он песен дивный дарИ голос, шуму вод подобный…[16]Никто так не был связан исторически с преданиями русской литературы, как Пушкин. Он изучил старинных писателей, которых теперь никто не читает: он брал эпиграфы из Хераскова и Княжнина. Из лицейских его стихотворений (за напечатание которых нельзя довольно возблагодарить издателей трех последних томов его сочинений) видно, что он был ученик не только Державина, Дмитриева, Жуковского и Батюшкова, но и дяди своего В. Пушкина, – и первые детские опыты его являют в нем стихотворца первых годов текущего столетия, хотя он родился только в последний год прошлого. Особенно любопытны и поучительны те из его лицейских пьес, которые он потом переделал: какое искусство иногда одним словом, одним эпитетом переделать стих так, что его не узнаешь! Какой тонкий художественный такт в знании того, что можно оставить без перемены, что надо переправить и из чего нельзя ничего сделать! Удивительно ли, что этот человек как будто перестроил вновь и язык, и версификацию, с таким успехом уже перестроенные Карамзиным и Дмитриевым, Жуковским и Батюшковым! Стих Пушкина – это вековечный образец, неумирающий тип русского стиха: не было и не будет лучшего. Искусство как искусство, поэзия как поэзия на Руси – это дело Пушкина. Без него не было бы у нас поэзии; и это потому, что он был слишком поэт, слишком художник, может быть, в ущерб своей великости в других значениях. И вот почему – повторяем – от него ведем мы русскую поэзию и называем его первым, даже по времени, русским поэтом…
Так думаем мы о развитии русской поэзии и русской литературы: ее история, по нашему мнению, есть история ее усилий от искусственности и подражательности перейти к естественности и самобытности, из книжной сделаться живою и общественною. Это продолжается и теперь, но уже в другой сфере – в сфере «возведения в перл создания прозы жизни». И скоро наступит время, когда совсем решится эта задача и кончится эта работа. Уже и теперь заметно новое требование от искусства – требование разумного содержания, которое соответствовало бы историческому духу современности. И уже явился было на Руси новый великий поэт, в первых, еще юных и незрелых, произведениях которого проглядывали полнота и богатство глубокого содержания, при художественности форм, достойной преемника Пушкина; но преждевременная смерть внезапно рушила надежды, которым не было конца и меры…[17]
Прекрасное погибло в пышном цвете:Таков удел прекрасного на свете!Таков в особенности, прибавим мы, удел замечательнейших русских талантов…
Повторяем: так думаем мы о развитии русской поэзии и литературы, и так многие могут теперь думать об этом предмете. В этом случае мы дали нашим читателям факт об одной стороне современной русской критики. Дай бог, чтоб это была сторона светлая! Что же до темной, ее грустною картиною мы заключим нашу статью…[18] Теперь же перескажем, как думали современники о фазисах русской литературы, которые мы слегка означили. Это будет историею русской критики.



