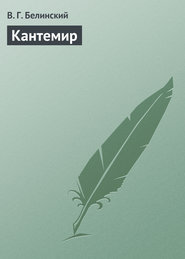 Полная версия
Полная версияКантемир

Виссарион Григорьевич Белинский
Кантемир
Русскую литературу начинают с Ломоносова, – и справедливо. Ломоносов действительно был основателем русской литературы. Как гениальный человек, он дал ей форму и направление, которые она надолго удержала. Каковы были эта форма и это направление – вопрос другой; дело в том, что дать форму и направление целой литературе мог только человек необыкновенный, но, несмотря на общее согласие в том, что русская литература начинается с Ломоносова, все начинают ее историю с Кантемира. Это тоже справедливо. Если Кантемир и Тредьяковский не были основателями русской литературы, их труды некоторым образом были как бы предисловием к ее основанию. Оба они, особенно последний, брались за то, за что прежде всего должно было взяться; но оба они не имели достаточных средств для выполнения предлежавшего им дела. Впрочем, к Кантемиру это относится гораздо меньше, чем к Тредьяковскому. Кантемир не столько начинает собою историю русской литературы, сколько заканчивает период русской письменности. Кантемир писал так называемыми силлабическими стихами, – размером, который совершенно несвойствен русскому языку; но этот размер существовал на Руси задолго до Кантемира. Он зашел к нам из Польши через Малороссию, в XVI столетии. Этим размером писали и Петр Могила, и Димитрий Ростовский, и Симеон Полоцкий; но их стихи были духовного содержания, не блестели поэзиею и отличались однажды навсегда принятою и неподвижною риторическою формою; Кантемир же первый начал писать стихи, тем же силлабическим размером,{1} но содержание, характер и цель его стихов были уже совсем другие, нежели у его предшественников на стихотворческом поприще. Кантемир начал собою историю светской русской литературы. Вот почему все, справедливо считая Ломоносова отцом русской литературы, в то же время не совсем без основания Кантемиром начинают ее историю. Несмотря на страшную устарелость языка, которым писал Кантемир, несмотря на бедность поэтического элемента в его стихах, Кантемир своими сатирами воздвиг себе маленький, скромный, но тем не менее бессмертный памятник в русской литературе. Имя его уже пережило много эфемерных знаменитостей, и классических и романтических, и еще переживет их многие тысячи. Этот человек, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свел поэзию с жизнию, – тогда как сам Ломоносов только развел их надолго. Поэзия Кантемира уже по тому одному, что она была сатирическою, не могла быть риторическою. Не только при Кантемире, но и гораздо спустя после него русская литература могла, если б поняла свое положение, смеяться и осмеивать, а между тем она больше восторгалась и надувалась. Впрочем, действительность-таки взяла свое, – и русская литература как-то сама собою, бессознательно, разделилась на сатирическую и риторическую. Значительная часть сочинений Сумарокова в сатирическом роде, – и, несмотря на тупость и аляповатость сатирической музы этого неутомимого писателя, стремившегося к всеобъемлемости и ничего не обнявшего, его нападки на подьячих не были бесполезны: если они не исправляли нравов, зато поддерживали в обществе сознание, что порок есть все-таки порок, хотя бы он был и неизбежным злом.{2} Следовательно, благодаря, может быть, заслуге одной только литературы, у нас зло не смело называться добром, а лихоимство и казнокрадство не титуловались благонамеренностью, как это всегда водилось и теперь водится, например, в Китае. И могло ли это быть у нас иначе, если сатирическое направление, со времен Кантемира, сделалось живою струею всей русской литературы? Не говоря уже о Фонвизине, которого превосходный талант был по преимуществу сатирический, – сам Державин, который, по духу своего времени, риторическую превыспренность считал заодно с поэзиею, – заплатил большую дань сатире. И еще далеко не успел блестящий лирик века Екатерины допеть своих громозвучных од, как явился на Руси национальный баснописец – Крылов. Это сатирическое направление, столь важное и благодетельное, столь живое и действительное для общества, в котором так странно боролась прививная европейская форма с азиатскою сущностью родной старины, – это сатирическое направление никогда не прекращалось в русской литературе, но только переродилось в юмористическое, как более глубокое в технологическом отношении и более родственное художественному характеру новейшей русской поэзии.
Говоря о Кантемире, нет нужды распространяться в биографических подробностях; но не мешает взглянуть бегло на жизнь Кантемира в ее связи с литературою. Есть на русском языке старинная книжица, изданная Новиковым в 1783 году, под титулом: «История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира, сочиненная Санктпетербургской Академии Наук покойным профессором Беером с российским переводом, и с приложением родословия князей Кантемиров».{3} В этой книжице сказано, что Кантемиры свой род производят от крымских татар, и доказано, кстати, что в этом обстоятельстве для Кантемиров нет ничего унизительного, потому что «знатностию породы, каковую предки наши, или на прямой добродетели, или на неякой мнимой славе в своем утвердили потомстве, татары нам не токмо ни мало не уступают, но еще гораздо больше, нежели мы, благородством знаменитейших мужей превозносятся: ибо нет у них ни единого такового важного и храброго дела, за которое подлой или простолюдин мог бы когда-нибудь причтен быть в число мурз». После такого поистине татарского воззрения на несомненность родовой знаменитости князей Кантемиров наивная книжица неоспоримо доказывает, что Кантемиры происходят по прямой линии от Тамерлана, что видно из самого их имени: Кан-Тимур, то есть родственник Тимура. Но для русской литературы все равно, от Тамерлана или еще древнее – от Адама произошел сатирик Кантемир. Для нее довольно знать, что он был сын молдавского господаря Димитрия Кантемира, столь известного в истории Петра Великого по турецкой войне, кончившейся миром при Пруте. Князь Димитрий был человек ученый; с особенным удовольствием занимался он историею, «был весьма искусен в философии и математике и имел великое знание в архитектуре»; был членом Берлинской академии; говорил по-турецки, по-персидски, по-гречески, по-латине, по-итальянски, по-русски, по-молдавски, порядочно знал французский язык и оставил после себя несколько сочинений на латинском, греческом, молдавском и русском языках. Из них «Система мухаммеданского закона» по повелению Петра Великого напечатана в Петербурге в 1722 году. Очень естественно, что у такого отца дети были людьми учеными и образованными.
Антиох был четвертым сыном князя Димитрия и родился в Константинополе 1708 года, сентября 10-го. Так как отец скоро заметил в нем отличные дарования, то и приложил особенное старание о его воспитании, преимущественно перед всеми другими своими сыновьями. Сначала Антиох воспитывался в Харькове, потом в Москве, наконец в Петербурге. Везде пользовался он уроками лучших в то время преподавателей. Не желая ни на минуту спустить глаз своих с любимого сына, князь Димитрий взял Антиоха с собою в персидский поход, в котором он сопровождал Петра Великого, в 1722 году. Во время похода учение Антиоха не прерывалось ни на минуту; самое путешествие это практически не могло не быть чрезвычайно полезно любознательному четырнадцатилетнему юноше. Страсть и уважение к учености были так сильны в старом Кантемире, что он желал иметь наследником своего имения того из сыновей, который больше других отличится в науках. Он даже просил об этом Петра Великого, а в духовном завещании прямо указал на Антиоха, как на того из своих сыновей, который, по способностям и познаниям, достоин быть наследником его имения (стр. 332).[1] В 1725 году была учреждена Санктпетербургская императорская Академия наук, и Антиох выслушал курс высших наук у иностранных профессоров, приглашенных Петром Великим в Россию. Математике учился он у Бернуллия, физике у Бильфингера, истории у Беера, нравственной философии у Гросса. Блестящие дарования скоро обратили на молодого Кантемира общее внимание. Еще быв поручиком Преображенского полка, почти двадцати лет от роду, он едва не был послан к французскому двору; намерение это почему-то было отменено, но оно показывает, какою репутациею пользовался этот молодой человек в такое время, когда молодость считалась пороком, от которого едва избавлялись в сорок лет. По некоторым словам книги Беера можно заключить не без основания, что первые три сатиры Антиоха Кантемира не мало способствовали его возвышению в глазах самого правительства. Вместе с его братьями, Матвеем и Сергием, и сестрою Марьею, Анна Иоанновна пожаловала ему тысячу тридцать крестьянских дворов. В 1731 году он был послан в Лондон в качестве резидента.{4} Проезжая через Голландию, Кантемир запасся книгами и поручил одному книгопродавцу в Гаге напечатать сочинение своего отца: «Описание историческое и географическое Молдавии»; впрочем, это сочинение не было напечатано. В Лондоне Кантемир был принят с отличием, как ученый человек и глубокий политик. За удовлетворительное окончание возложенного на него поручения он был облечен значением чрезвычайного посланника и полномочного министра. Свободное от политических занятий время он посвящал наукам и беседе с учеными людьми Англии, которую он почитал просвещеннейшею страною в мире. Знакомство с некоторыми итальянцами побудило его выучиться итальянскому языку, которым он так хорошо овладел, что говорил и писал на нем, как природный итальянец. Вследствие оспы, которую Кантемир перенес в детстве, он всегда страдал истечением мокроты из глаз. От усиленного занятия чтением, в Лондоне эта болезнь до того у него усилилась, что он поехал в 1736 году в Париж лечиться у знаменитого в то время врача Жандрона, лейб-медика французского регента. Жандрон действительно помог Кантемиру; а когда, в 1738 году, Кантемир приехал в Париж в качестве полномочного министра, то и совсем излечил его от глазной болезни. В 1739 году Кантемир был наименован чрезвычайным послом при французском дворе. При запутанных обстоятельствах этой эпохи Кантемир удержался в милости и при правительнице, которая пожаловала его в 1741 году в тайные советники, и при Елизавете Петровне, подтвердившей его в этом чине. В Париже Кантемир вел жизнь уединенную, знаясь только с людьми учеными и литераторами, и с страстью предавался учению. С особенным рвением занимался он тогда алгеброю и сочинил на русском языке «Руководство к алгебре», которое осталось в рукописи. Батюшков, представивший Кантемира, в беседе с Монтескье, аббатом В. и аббатом Гуаско, справедливо заметил, что Кантемир писал бы стихи и на необитаемом острове, потому что он писал их в Париже, который, в отношении к нему, как к стихотворцу, был для него действительно необитаемым островом.{5} Весь характер, вся личность Кантемира отразилась в этих, его же, стихах:
Тот в сей жизни лишь блажен, кто, малым доволен,В тишине знает прожить, от суетных воленМыслей, что мучат других, и топчет надежнуСтезю добродетели к концу неизбежну,Небольшой дом на своем построенный полеДает нужное моей умеренной воле,Не скудный, не лишний корм и средню забаву,Где б с другом честным я мог, по моему нравуВыбранным, в лишни часы прогнать скуки бремя,Где б от шуму отдален, прочее все времяПровожать меж мертвыми греки и латины.Исследуя всех вещей действа и причины,И, учась, знать образцом других, что полезно,Что вредно в нравах, что в них гнусно, иль любезно:То одно желания мои составляет.{6}С 1740 года здоровье Кантемира начало совершенно расстраиваться. Вот что говорит об этом книжица Беера: «Князь Антиох подвержен был человеческим слабостям, как и другие люди. Он чувствовал то сам, яко человек, и имел несчастие искуситься в скорби, свойственной человеческому роду. С 1740 году почувствовал он внутреннюю болезнь, которая от часу умножалась. И хотя он в пище весьма был воздержен, однако желудок его почти ничего уже варить не мог». В 1741 году он ездил на ахенские воды, от которых и получил облегчение, равно как и от лекарства какой-то девицы Стефенс, которое он употреблял по совету же Жандрона. В 1743 году он пользовался пломбьерскими водами, которые, однако не помогли ему. По возвращении в Париж он отдался на руки разным врачам, которые совсем залечили его. В это время он страдал крайним ослаблением желудка, резью в почках и бессонницею. Потом он схватил лихорадку, довольно, впрочем, легкую, и у него открылся кашель. По совету одного из друзей своих, который, вопреки мнению докторов, смотрел серьезно на эти припадки, Кантемир решился провести зиму в Неаполе. Но когда он получил на это разрешение от своего двора, было уже поздно: усилившаяся болезнь и дурное время года не позволили ему тронуться с места. Полгода страдал он болезнию в груди, не переставая чтением прогонять скуку бессонницы. На увещания, что он этим вредит себе, он обыкновенно отвечал, что «тогда только не чувствует болезни, когда трудится». Охоту к чтению он потерял только за три или за четыре дня до своей смерти, и это-то обстоятельство открыло ему опасность его положения. Один из друзей его, читая с ним рассуждение Цицерона о дружбе, во имя налагаемого этим чувством долга, заговорил с ним прямо о его положении и посоветовал заняться последними распоряжениями. Кантемир с благодарностью принял этот совет как доказательство истинной дружбы и немедля приступил к составлению духовной, в которой, отказав все свое имение братьям и сестрам, завещал, чтоб тело его по вскрытии было набальзамировано, отвезено в Россию и похоронено без всякой церемонии в греческом монастыре, в Москве, где схоронены были и его родители. До самой минуты своей смерти он был в полном разуме. Умер он в 1744 году, марта 31, тридцати пяти лет и семи месяцев от роду. По вскрытии тела оказалось, что у него была водяная в груди.
О личном характере Кантемира известно только, что он был человек благородный, правдивый и кроткий. Сначала он казался неприветливым, но эта неприветливость постепенно исчезала в отношении к людям, которые ему более и более нравились. Слабое и болезненное его телосложение придавало его характеру меланхолический оттенок, что, однакож, не мешало ему быть и любезным и веселым в обществе людей, которые ему нравились и с которыми он мог быть откровенен. В частной жизни он был экономен и, как говорит книжица Беера, из которой мы заимствовали эти подробности, «никогда не признавал, что долги были знаком благородства и высокого достоинства». Вот все, что дошло до потомства о Кантемире, как о человеке: в его сатирах мы увидим его как поэта и вновь встретимся с ним, как с человеком.
В 1729 году{7} написал Кантемир свою первую сатиру, следовательно, ровно за десять лет до первой оды Ломоносова («На взятие Хотина»), написанной новым размером. Это едва ли не лучшая из всех сатир Кантемира. Она была направлена против обскурантов (людей, одержимых болезнию мракобесия), врагов просвещения, словом, славянофилов того времени. В ней, как и во всех сатирах Кантемира, нет ни желчного негодования, ни бурного пафоса; но в ней много ума, много комической соли, и есть одушевление, тихое, ровное, но постоянно выдерживаемое. Кантемир не бичует, а только сечет обскурантов. Оно и естественно: сатира страстная, грозная, бешеная, вооруженная свитым из змей бичом, сатира в образе Немезиды, бросающей молнии из очей, с пеною у рта, такая сатира возможна только или у народа, который уже пережил самого себя, для которого уже нет ни выхода, ни будущего, или у народа, который еще полн свежих сил жизни, но уже сознал причины, которые удерживают его стремление на пути дальнейшего развития. Ни то, ни другое положение не могло относиться к России времен Кантемира. Прогресс, который тогда для нее был возможен, весь заключался больше в форме, нежели в духе, следовательно, был слишком внешен и потому не мог иметь слишком сильных и опасных врагов. Эти враги были больше смешны, нежели страшны, и для них нужен был не свистящий бич ювеналовской сатиры, а легкая лоза насмешки и иронии. И в этом отношении сатиры Кантемира были именно такими, какие тогда были нужны и могли быть полезны. Первая сатира, «На хулящих учение», особенно богата смешными чертами и верными снимками с общества того времени. Поэт делает обращение «уму своему, прося его не понуждать его рук к перу. Можно, говорит поэт, и не писавши достичь славы: ведь в наш век к ней ведут многие пути; а из них самый трудный и невыгодный – тот, «что босы проклали девять сестер».{8}
…Кто над столом гнется,Пяля на книгу глаза, больших не добьетсяПалат, ни расцвечена мраморами саду;Овцы не прибавит он к отцовскому стаду.Правда, в нашем молодом монархе[2] надеждаВсходит музам не мала; со стыдом невеждаБежит его; Аполлин славы в нем защитуСвоей не слабу почул, чтяща свою свитуВидел его самого, и во всем обильноТщится множить жителей парнасских он сильногоНо та беда, многие в царе похваляютЗа страх то, что в подданном дерзко осуждают.Как ловко выражена мысль двух последних стихов! За ними следует ряд картин тогдашнего общества, написанных мастерскою кистию. Поэт заставляет невежд, под вымышленными именами, говорить филиппики против просвещения. И каждый из этих антагонистов света божия высказывается сообразно своему характеру, и ни один из них не повторяет другого.
«Расколы и ереси науки суть дети,Больше врет, кому далось больше разумети,Приходит в безбожие, кто над книгой тает».Критон с четками ворчит и вздыхает,И просит свята душа с горькими слезамиСмотреть, сколь семя наук вредно меж нами:«Дети наши, что пред тем тихи и покорныПраотческим шли следом, к божией проворныСлужбе, с страхом слушая, что сами не знали,Теперь, к церкви соблазну, Библию честь стали.Толкуют, всему хотят знать повод, причину,Мало веры подая священному чину;Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,Не прибьешь их палкою к соленому мясу;Уже свечек не кладут, постных дней не знают,Мирскую в церковных власть руках лишну чают,Шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали,Поместья и вотчины весьма не пристали».Сильван другую вину наукам находит:«Учение (говорит) нам голод наводит;Живали мы преж сего, не зная латыне,Гораздо обильнее, чем живем мы ныне,Гораздо в невежестве больше хлеба жали,Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли,Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,Ни связи, должно ль о том тужить дворянину:Довод, порядок в словах, подлых то есть дело;Знатным полно подтверждать иль отрицать смело.С ума сошел, кто души силу и пределыИспытает, кто в поту томится дни целы,Чтоб строй мира и вещей выведать пременуИль причину; глупо он лепит горох в стену.Прирастет ли мне с того день к жизни, иль в ящикХотя грош? могу ль чрез то узнать, что прикащик,Что дворецкий крадет в год? как прибавить водуВ мой пруд? как бочек число с винного заводу?Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,Коптит печась при огне, чтоб вызнать руд свойства;Ведь не теперь мы твердим, что буки, что веди;Можно знать различие злата, сребра, меди.Трав, болезней знание – все то голы враки;Глава ль болит? тому врач ищет в руке знаки;Всему в нас виновна кровь, буде ему веруНять хощешь. Слабеем ли? – кровь тихо чрез меруТечет; если спешно: жар в теле, – ответ смелоДает, хотя внутрь никто не видел живо тело.А пока в баснях таких время он проводит,Лучший сок из нашего мешка в его входит.К чему звезд течение числить, и ни к делу,Ни к стати за одним ночь пятном не спать целу?За любопытством одним лишиться покою,Ища – солнце ль движется, или мы с землею?В часовнике можно счесть на всякий день годаЧисло месяца, и час солнечного всхода.Землю в четверти делить без Эвклида смыслим;Сколько копеек в рубле, без алгебры счислим».. . . . . . . . . . .Румяный, трижды рыгнув, Лука подпевает:«Наука содружество людей разрушает;Люди мы к сообществу божия тварь стали,Не в нашу пользу одну смысла дар прияли:Что же пользы иному, когда я запрусяВ чулан, для мертвых друзей живущих лишуся?Когда все содружество, вся моя ватагаБудет чернило, перо, песок да бумага?В весельи, в пирах, мы жизнь должны провождати;И так она не долга: на что коротати,Крушиться над книгою и повреждать очи?Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи?Вино – дар божественный, много в нем провору;Дружит людей, подает повод к разговору,Веселит, все тяжкие мысли отымает,Скудость знает облегчать, слабых ободряет,Жестоких мягчит сердца, угрюмость отводит,Любовник лучше вином в цель свою доходит.Когда по небу сохой бразды водить станут,А с поверхности земли звезды уж проглянут,Когда будут течь к ключам своим быстры реки —И возвратятся назад минувшие веки;Когда в пост чернец одну есть станет вязигу,Тогда, оставя стакан, возьмуся за книгу».Медор тужит, что чресчур бумаги исходитНа письмо, на печать книг, а ему приходит,Что не во что завертеть завитые кудри;Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры.Перед Егором[3] двух денег Виргилий не стоит,Рексу,[4] не Цицерону похвала достоит.{9}Обращаясь вновь к своему уму и доказывая ему бесплодность борьбы с невеждами, сатирик говорит:
Гордость, леность, богатство, мудрость одолело;Науку невежество местом уж посело.Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,Сидит за красным письмом, смело полки водит.{10}Наука ободрана, в лоскутах обшита,Из всех почти домов с ругательством сбита,Знаться с нею не хотят, бегут ее дружбы,Как на море страдавшие корабельной службы.Все кричат: никакой плод не виден с науки!Ученых хоть голова полна, пусты руки!Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,Танцует, на дудочке песни три играет,Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы, —Тому уж и в самые молодые летыВсякая высша степень – мзда уж невелика,Седми мудрецов себя достойным мнит лика.Вторая сатира, «Филарет и Евгений», написанная месяца через два после первой, нападает «на зависть и гордость дворян злонравных». Это, впрочем, чуть ли не слабейшая из всех сатир Кантемира. В ней больше рассуждений, больше морали, нежели желчи. Впрочем, и в ней есть места замечательные. Вот, например, картина жизни фата или льва того времени:
Пел петух, встала заря, лучи осветилиСолнца верхи гор; тогда войско выводилиНа поле предки твои; а ты под парчою,Углублен мягко в пуху телом и душою,Грозно сопешь; когда дня пробегут две доли,Зевнешь, растворишь глаза, выспишься до воли.Тянешься уж час другой, нежишься, ожидаяПойла, что шлет Индия, иль везут с Китая,Из постели к зеркалу одним спрыгнешь скоком,Там уж в попечении и труде глубоком.Женских достойную плеч завеску на спинуВскинув, волос с волосом прибираешь к чину.Часть над лоским лбом торчать будут сановиты,По румяным часть щекам в колечки завитыСвободно станет играть, часть уйдет за темяВ мешок. Дивится тому строению племяТебе подобных; ты сам, новый Нарцисс, жадноГлотаешь очьми себя; нога жмется складноВ тесном башмаке твоя, пот со слуг валится,В две мозоли и тебе красота становится;Избит пол, и под башмак стерто много мелу.Деревню наденешь потом на себя ты целу.{11}Дальнейшее описание облачения фата и, в особенности, слова сатирика насчет того, как хорошо воспользовался фат своим путешествием по Европе, чрезвычайно забавны, за исключением устарелого языка, слога и силлабического стихосложения. Пусть читатели сами поверят справедливость наших слов, прочтя эту сатиру всю, а мы выпишем из нее еще вот эти стихи:
Бедных слезы пред тобой льются, пока злобноТы смеешься нищете; каменный душоюБьешь холопа до крови, что махнул рукоюВместо правой левою (зверям лишь приличнаЖадность крови; плоть в слуге твоей однолична).Мало, правда, ты копишь денег, но к ним жаден;Мот почти всегда живет сребролюбьем смраден,И все законно он мнит, что уж истощеннойМожет дополнить мешок; нужды совершеннойСтало ему золото куча, без которойПрохладам должен своим конец видеть скорой.В отрывке есть стихи (не указываем на них: человеческое чувство читателя их угадает и без нас), которые могут служить торжественным и неопровержимым доказательством; что наша литература, даже в самом начале ее, была провозвестницею для общества всех благородных чувств, всех высоких понятий. Да, она умела не только льстить, но и выговаривать святые истины о человеческом достоинстве. Самая лесть у ней была не столько убеждением, сколько, во-первых, подчинением всеми принятому обычаю, а во-вторых, риторическою манерою. До поэзии достигала она и у самого Державина только там, где он переставал быть поэтом в духе времени и становился просто человеком. Простим же ей – нашей старой литературе – ее грехи, вольные и невольные, и будем ей благодарны за то, что она, и только одна она, была воспитательницею юного, созданного Петром Великим общества, от Кантемира до наших времен. По мне, нет цены этим неуклюжим стихам умного, честного и доброго Кантемира:
. . . . .Лучшую дорогуИзбрал, кто правду всегда говорить принялся;Но и кто правду молчит, виновен не остался,Буде ложью утаить правду не посмеет,Счастлив, кто средины оной держаться умеет;Ум светлый нужен к тому, разговор приятный,Учтивость приличная, что дает род знатный.Ползать не советую, хоть спеси гнушаюсь;. . . . . . . . . .Адам дворян не родил, но одному сынуЖребий был копать сад, пасть другому скотину;Ной в ковчеге с собою спас все себе равныхПростых земледетелей, нравами лишь славных;От них мы произошли, один поранееОставя дудку, соху, другой – попозднее.Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же предмету, выпишем теперь же из шестой сатиры стихи, в которых Кантемир казнит насмешкою добровольное унижение человеческого достоинства низкопоклонством и лестью:

