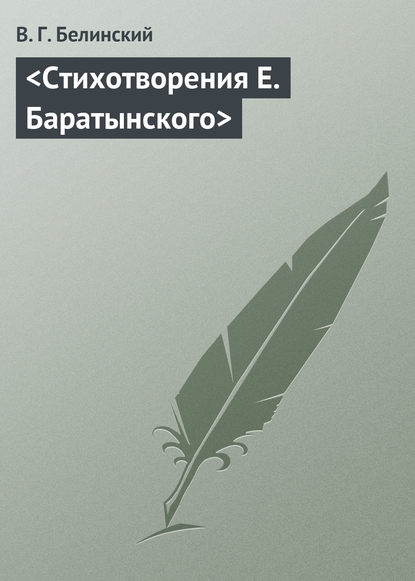 Полная версия
Полная версияСтихотворения Е. Баратынского
По этой энергии и поэтической красоте стихов уж тотчас видно, что поэт выражает свое profession de foi[2], передает огненному слову давно накипевшие в груди его жгучие мысли… Настоящий век служит исходным пунктом его мысли; по нем он делает заключение, что близко время, когда проза жизни вытеснит всякую поэзию, высохнут растленные корыстию и расчетом сердца людей, и их верованием сделается «насущное» и «полезное»… Какая страшная картина! Как безотрадно будущее! Поэзии более нет. Куда же девалась она? – исчезла при свете просвещения… Итак, поэзия и просвещение – враги между собою? Итак, только невежество благоприятно поэзии? Неужели это правда? Не знаем: так думает поэт – не мы… Впрочем, поэт говорит не о поэзии, но о ребяческих снах поэзии, а это – другое дело! Но посмотрим, как разовьется далее мысль поэта.
Для ликующей свободыВновь Эллада ожила,Собрала свои народыИ столицы подняла:В ней опять цветут науки,Дышит роскошь, блещет вкус;Но не слышны лиры звукиВ первобытном рае муз!Блестит зима дряхлеющего мира,Блестит! Суров и бледен человек:Но зелены в отечестве ОмираХолмы, леса, брега лазурных рек;Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,Кастальский ключ живой струею бьет;Нежданный сын последних сил природы,Возник поэт: идет он и поет.Теперь любопытно, о чем он поет; любопытно потому особенно, что в его песне ясно должна высказаться мысль автора этой пьесы.
Воспевает простодушныйОн любовь и красоту,И науки, им ослушной,Пустоту и суету;Мимолетные страданья,Легкомыслием целя,Лучше, смертный, в дни незнанья.Радость чувствует земля!А, вот что! теперь мы понимаем! Наука ослушна (то есть непокорна) любви, и красоте; наука пуста и суетна!.. Нет страданий глубоких и страшных, как основного, первосущного звука в аккорде бытия, страдание мимолетно – его должно исцелять легкомыслием; в дни незнания (то есть невежества) земля лучше чувствует радость!..
Это стихотворение написано в 1835 году от Р. X.!..
Как жаль, что люди не знают языка, например, птичьего: какие должны быть удивительные поэты между птицами! Ведь птицы не знают глубоких страданий – их страдания мимолетны, и они целят их не только легкомыслием, но даже и совершенным бессмыслием, что для поэзии еще лучше; а о науках птицы и не слыхивали, стало быть, и понятия не имеют о пустоте и суете наук; что же касается до незнания – птицы ушли дальше его, – они пребывают в решительном невежестве… Какие благоприятные обстоятельства для поэзии, и как жаль, что, по незнанию птичьего языка, мы незнакомы с птичьею поэзиею!..
Но полно, прав ли поэт в своей основной мысли? Полно, невежеством ли сильна поэзия? По крайней мере до сих пор известно всему грамотному свету, что сильнейшее развитие изящных искусств совершалось только у просвещеннейших народов мира – греков, римлян, итальянцев, англичан, французов и немцев, а не у чукчей, коряков и самоедов…
Поклонникам Урании холоднойПоет, увы! он благодать страстей:Как пажити Эол бурнопогодный,Плодотворят они сердца людей;Живительным дыханием развита,Фантазия подъемлется от них,Как некогда возникла АфродитаИз пенистой пучины волн морских.И зачем не предадимсяСнам улыбчивым своим?Жарким сердцем покоримсяДумам хладным, а не им?Верьте сладким убежденьямВас ласкающих очесИ отрадным откровеньямСострадательных небес!Какие чудные, гармонические стихи! Не грех ли заставить их выражать такие неосновательные мысли? И удивительно ли, что —
Суровый смех ему ответом; перстыОн на струнах своих остановил,Сомкнул уста вещать полуотверсты (?),Но гордые главы не преклонил:Стопы свои он в мыслях направляетВ немую глушь, в безлюдный край; но светУж праздного вертепа не являет,И на земле уединенья нет!Сила грустного чувства словно молния проблеснула в последних стихах этого куплета: видно, что мысль стихотворения явилась в скорбях рождения! Видно, что она вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца… И тем не менее все-таки она – ложная мысль!
Человеку непокорноМоре синее одно:И свободно, и просторно,И приветливо оно;И лица не изменилоС дня, в который АполлонПоднял вечное светилоВ первый раз на небосклон…Эти стихи так хороши, так хороши, что напоминают собою строфы, переведенные Жуковским из стихотворений Шиллера, посвященных древнему миру.
Оно шумит перед скалой Левкада.На ней певец, мятежной думы полн,Стоит… в очах блеснула вдруг отрада:Сия скала… тень Сафо!.. голос волн…Где погребла любовница ФаонаОтверженной любви несчастный жар,Там погребет питомец АполлонаСвои мечты, свой бесполезный дар!Именно – бесполезный дар!..
И попрежнему блистаетХладной роскошию свет:Серебрит и позлащаетСвой безжизненный скелет;Но в смущении приводитЧеловека глас морской,И от шумных вод отходитОн с тоскующей душой!Опять повторяем: какие дивные стихи! Что, если бы они выражали собою истинное содержание! О, тогда это стихотворение казалось бы произведением огромного таланта! А теперь, чтоб насладиться этими гармоническими, полными души и чувства стихами, надо сделать усилие: надо заставить себя стать на точку зрения поэта, согласиться с ним на минуту, что он прав в своих воззрениях на поэзию и науку; а это теперь решительно невозможно!.. И оттого впечатление ослабевает, удивительное стихотворение кажется обыкновенным…
Бедный век наш – сколько на него нападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы – эти великие победы его, уже не над материею только, но над пространством и временем! Правда, дух меркантильности уже чересчур овладел им; правда, он уже слишком низко поклоняется златому тельцу; но это отнюдь не значит, чтоб человечество дряхлело и чтоб наш век выражал собою начало этого дряхления: нет, это значит только, что человечество в XIX веке вступило в переходный момент своего развития, а всякое переходное время есть время дряхления, разложения и гниения. И пусть за этим дряхлением последует смерть – что нужды! Человечество совсем не то, что человек: умирая, человек уже не существует более на земле; но человечество, как идеальная личность, составляющаяся из мильйонов реальных личностей, которые если и убывают, зато и прибывают, – человечество старым и дряхлым умирает на земле для того, чтоб на земле же воскреснуть юным и крепким. Уже не раз оно было и младенцем, и юношею, мужем и старцем, умирало и воскресало, подобно фениксу, из собственного своего пепла. Разве последние дни древнеязыческого мира, дни от царствования Августа почти до царствования Августула, не были днями разложения, гниения и смерти, и разве за ними не последовало воскресения и нового младенчества человечества? Разве последовавшие потом девять столетий не были эпохою пылкой юности человечества, а с пятнадцатого века не вступило оно в свой возраст мужества? Восемнадцатый век был веком его старости… А сколько было частных смертей, означивших собою эпоху перелома и возрождения? И разве не были эпохами смерти крестовые походы, когда вся Европа в ужасе ожидала страшного суда и все народы ее двинулись в Азию, чтобы в своей колыбели найти и свой гроб; или тридцатилетняя война, когда выжженная, обгорелая Германия походила на разграбленный стан?.. Итак, думать, что человечество когда-нибудь умрет и что наш век есть его предсмертный век, – значит не понимать, что такое человечество, значит не иметь высокой веры в его высокое значение… Если наш век и индустриален по преимуществу, это нехорошо для нашего века, а не для человечества: для человечества же это очень хорошо, потому что через это будущая общественность его упрочивает свою победу над своими древними врагами – материею, пространством и временем. При этом не худо не забывать, что наш индустриальный век гордо называет своими сынами Гёте, Бетховена, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Беранже и многих других художников. Неужели же это все последние поэты?.. Много же их!.. Мы еще понимаем трусливые опасения за будущую участь человечества тех недостаточно верующих людей, которые думают предвидеть его погибель в индустриальности, меркантильности и поклонении тельцу златому; но мы никак не понимаем отчаяние тех людей, которые думают видеть гибель человечества в науке. Ведь человеческое знание состоит не из одной математики и технологии, ведь оно прилагается не к одним железным дорогам и машинам… Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее знание, – высшее объемлет собою мир нравственный, заключает в области своего ведения все, чем высоко и свято бытие человеческое, все, что составляет достоинство и величие имени человеческого, все те великие вопросы, которые присущны самой натуре человека, с которым он родится и которые носит в груди своей… Кроме математики и технологии, есть еще философия и история – одна как наука развития в мышлении довременных и бесплотных идей, другая – как наука осуществления в фактах, в действительности, развития этих довременных идей, таинственных и первосущных материй всего сущего, всего рождающегося и умирающего и, несмотря на то, вечно живущего!..
Нам, может быть, скажут, что стихотворение не есть философская система и что особенно по одному стихотворению нельзя заключать о мыслительном воззрении поэта на мир. На первое мы дадим ответ ниже; вместо же ответа на второе перейдем к другим стихотворениям г. Баратынского: они ответят за нас.
Пока человек естества не пыталГорнилом, весами и мерой;Но детски вещаньям природы внимал.Ловил ее знаменья с верой;Покуда природу любил он, онаЛюбовью ему отвечала,О нем дружелюбной заботы полна,Язык для него обретала.Почуя беду над его головой,Вран каркал ему в опасенье,И замысла, в пору смирясь пред судьбой,Воздерживал он дерзновенье.На путь ему выбежал из лесу волк,Крутясь и подъемля щетину,Победу пророчил, и смело свой полкБросал он на вражью дружину.Чета голубиная, вея над ним,Блаженство любви прорицала:В пустыне безлюдной он не был одним,Не чуждая жизнь в ней дышала.Но чувство презрев, он доверил уму;Вдался в суету изысканий…И сердце природы закрылось ему,И нет на земле прорицаний!{10}Коротко и ясно: все наука виновата! Без нее мы жили бы не хуже ирокезов… Но хорошо ли, но счастливо ли живут ирокезы без науки и знания, без доверенности к уму, без суеты изысканий, с уважением к чувству, с томагоуком в руке и в вечной резне с подобными себе? Нет ли и у них, у этих счастливых, этих блаженных ирокезов, своей суеты испытаний, нет ли у них своих понятий о чести, о праве собственности, своих мучений честолюбия, славолюбия? И всегда ли вран успевает предостерегать их от беды, всегда ли волк пророчит им победу? Точно ли они – невинные дети матери-природы?.. Увы, нет, и тысячу раз нет!.. Только животные бессмысленные, руководимые одним инстинктом, живут в природе и природою. Дикарь-человек татуирует свое тело, пронзает свои ноздри и уши (в последнем недалеко ушел от него и просвещенный европеец, по крайней мере в лице своего прекрасного пола, – знак, что еще много ему работы для освобождения себя от первобытного варварства), пронзает свои ноздри и уши, чтоб украшать их блестящими привесками: варварство и грубость – без сомнения; но уже этим самым варварством он стоит выше животного. Животное родится готовым; чего не вырастет на нем, того не приделает оно себе искусственно; оно не может сделаться ни лучше, ни хуже того, каким создала его природа. Человек бывает животным только до появления в нем первых признаков сознания; с этой поры он отделяется от природы и, вооруженный искусством, борется с нею всю жизнь свою. Это мы видим на дикарях: они те же люди, что и просвещенные европейцы, и существенное их различие от последних заключается только в том, что их искусственность неразумна: озарите их светом разума, и они свое татуирование заменят одеждой, то есть ложную искусственность заменят истинною. Но в самых дикостях и нелепостях этих несчастных детей природы видно уже порывание выйти из оков природы, порывание от инстинкта к разуму. В XVIII веке величайшие умы были наклонны видеть в дикарях образец неиспорченной человеческой природы; тогда эта мысль, вызванная крайностию гнившего в ложной искусственности европейского общества, была и нова и блестяща. В XIX веке эта мысль и стара и пошла:
Все мысль, да мысль! Художник бедный слова!О жрец ее! Тебе забвенья нет;Все тут, да тут, и человек и свет,И смерть, и жизнь, и правда без покрова.Резец, орган, кисть! счастлив, кто влекомК ним чувственным, за грань их не ступая!Есть хмель ему на празднике земном!{11}Но пред тобой, как пред нагим мечом,Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная!И это понятие об отношении мысли к искусству совершенно гармонирует с понятием г. Баратынского об отношении ума к чувству, науки к жизни. Что такое искусство без мысли? – то же самое, что человек без души – труп… И почему разум и чувство – начала враждебные друг другу? Если они враждебны, то одно из них – лишнее бремя для человека. Но мы видим и знаем, что глупцы бывают лишены чувства, а бесчувственные люди не отличаются умом. Мы видим и знаем, что преимущественное развитие чувству насчет ума делает человека, самым счастливым образом одаренного от природы, или фанатиком-зверем, или старою бабою, суеверною и слабоумною; так же, как один ум без чувства делает человека или безнравственным существом, эгоистом, или сухим диалектиком, безжизненным педантом, который во всем видит одни логические формальности и ни в чем не видит души и содержания. Очевидно, что разум и чувство – две силы, равно нуждающиеся друг в друге, мертвые и ничтожные одна без другой. Чувство и разум – это земля и солнце: земля в своих таинственных недрах скрывает растительную силу и все зародыши плодов своих, солнце возбуждает ее растительную силу – и радостно рвутся на свет его из темной роковой страны зеленеющие стебли ее порождений… Так в груди человека – в этом подземном царстве темных предчувствий и немых ощущений, скрываются, словно в земле, корни всех наших живых стремлений и страстных помыслов; но только свет разума может и развивать, и крепить, и просветлять эти ощущения и чувства до мысли, – без него они остаются или животным инстинктом, или дикими страстями, черными демонами, устрояющими гибель человека… Чувство в свою очередь есть действительность разума, как тело есть реальность души: без чувства идеи холодны, светят, а не греют, лишены жизненности и энергии, неспособны перейти в дело. Итак, полнота и совершенство человеческой натуры заключается в органическом единстве разума и чувства. Горе дому, который разделяется сам на себя; горе человеку, в котором чувство восстанет на разум или разум восстанет на чувство! И однакож это горе неизбежное, необходимое, и мертв, ничтожен тот человек, который не испытал его! Чувство по натуре своей стремится к положению, любит останавливаться на положительных результатах; разум контролирует положения чувства и, если не найдет их основательными, отрицает их. Отсюда происходит мука сомнения. Но без этого сомнения человек, остановившись раз на известном положении, и закоснел бы в нем, не двигаясь вперед, следовательно, не развиваясь, – не делался бы из младенца отроком, из отрока юношей, из юноши мужем, из мужа старцем, но до смерти своей оставался бы младенцем. Дух сомнения гонит человека от одного определения к другому, – и благо тому, кто сомневался в известных истинах, не сомневаясь в существовании истины, ибо истины преходящи, но истина вечна!
Помнится нам, г. Баратынский где-то сказал что-то вроде следующей мысли: положение поэта трудно потому, что в одно и то же время он находится под противоположным влиянием огненной творческой фантазии и обливающего холодом рассудка. Мысль, не скажем несправедливая, но не точная: обливающий холодом рассудок действительно входит в процесс творчества, но когда? – в то время, когда еще поэт вынашивает в себе концепирующееся свое творение, следовательно, прежде, нежели приступить к его изложению, ибо поэт излагает уже готовое произведение. Разумеется, здесь должно предполагать высшие таланты, потому что только низшие сочиняют с пером в руке, еще не зная сами, что сочиняют они, или затрудняются в выражении собственных идей. Истинный поэт тем и велик, что свободно дает образ каждой глубоко прочувствованной им идее, выражает словом постижимое для одного ума и невыразимое для каждого, кто не поэт.
Этот несчастный раздор мысли с чувством, истины с верованием составляет основу поэзии г. Баратынского, и почти все лучшие его стихотворения проникнуты им. В одном из них ему предстает в горькую минуту истина и обещает успокоить путем холодного бесстрастия. Она говорит поэту:
Пускай со мной ты сердца жар погубишь,Пускай, узнав людей,Ты, может быть, испуганный, разлюбишьИ ближних и друзей.Я бытия все прелести разрушу,Но ум наставлю твой,Я оболью суровым хладом душу,Но дам душе покой.Поэт в трепете отказывается от страшного дара неземной гостьи; но в заключение просит его у ней так:
. . . Когда мое светилоВо звездной вышинеНачнет бледнеть, и все, что сердцу мило,Забыть придется мне,Явись тогда! открой мне очи,{12}Мой разум просвети,Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночиБезропотно сойти.Так, в другом стихотворении поэт окрыляет надеждами обольщений безумную юность, но, обращаясь к знающим, говорит:
Но вы, судьбину испытавшие,Тщету надежд, печали власть,Вы, знанье бытия приявшиеСебе на тягостную часть!Гоните прочь их рой прельстительный;Так! доживайте жизнь в тиши,И берегите хлад спасительныйСвоей бездейственной души.Своим бесчувствием блаженные,Как трупы мертвых из гробов,Волхвы, словами пробужденные,Встают со скрежетом зубов;Так вы, согрев в душе желания,Безумно вдавшись в их обман,Проснетесь только для страдания,Для боли новой прежних ран.Большое, отличающееся превосходными стихами стихотворение «Последняя смерть» есть апофеоза всей поэзии г. Баратынского. В нем вполне выразилось его миросозерцание. Поэт представляет в яркой картине кипящий жизнию мир; потом, в другой картине, увядание мира, а в третьей —
Прошли века, и тут моим очамОткрылася ужасная картина:Ходила смерть по суше, по водам,Свершалася живущего судьбина.{13}Где люди, где? скрывалися в гробах!Как древние столпы на рубежахПоследние семейства истлевали;В развалинах стояли города,По пажитям заглохнувшим блуждалиБез пастырей безумные стада;С людьми для них исчезло пропитанье:Мне слышалось их гладное блеянье.И тишина глубокая во следТоржественно повсюду воцарилась,И в дикую порфиру древних летДержавная природа облачилась.Величествен и грустен был позор (?)Пустынных вод, лесов, долин и гор.Попрежнему животворя природу,На небосклон светило дня взошло;Но на земле ничто его восходуПроизнести привета не могло:Один туман, над ней синея, вилсяИ жертвою чистительной дымился.Великолепная фантазия, но не более, как фантазия! И главный ее недостаток заключается в том, что она везде является черным демоном поэта. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастия – вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чем ее величайший недостаток. Здание, построенное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своем содержании. Мало того: сделавшись органом ложного направления, она лишается той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта.
Конечно, этот раздор мысли с чувством явился у поэта не случайно, – он заключался в его эпохе. Кто не знает и не помнит пушкинского Демона? Пушкин, как первый великий поэт русский, которого поэзия выходила из жизни, первый и встретился с демоном. «Печальны были наши встречи!» – восклицает он о своем демоне.
Его улыбка, чудный взгляд,Его язвительные речиВливали в душу хладный яд.Неистощимый клеветоюОн провиденье искушал;Он звал прекрасное мечтою;Он вдохновенье презирал;Не верил он любви, свободе,На жизнь насмешливо глядел —И ничего во всей природеБлагословить он не хотел.В самом деле, это страшный демон, особенно для первого знакомства! Впрочем, он опасен не тем, что он на самом деле, а тем, чем он может показаться человеку. Люди имеют слабость смешивать свою личность с истиною: усомнившись в своих истинах, они часто перестают верить существованию истины на земле. Вот тут-то демон и бывает опасен, тут-то он и губит людей. От него может спасти человека только глубокая и сильная, живая вера. Пусть он во всем разочаровался, пусть все, что любил и уважал он, оказалось недостойным любви и уважения, пусть все, чему горячо верил он, оказалось призраком, а все, что думал знать он, как непреложную истину, оказалось ложью, – но да обвиняет он в этом свою ограниченность или свое несчастие, а не тщету любви, уважения, веры, знания! Пусть самое отчаяние его в тщете истины будет для него живым свидетельством его жажды истины, а его жажда – живым свидетельством существования истины: ибо чего нет, о том несродно страдать человеческой натуре. Пусть прошло для него время познания истины, и он отчается навсегда узреть ее обетованную землю, но пусть же не смешивает он себя с истиною и не думает, что если она не для него, то уже и ни для кого. Но как же, скажут, верить, если вся действительность есть отрицание всякой веры?.. Действительность? – Но что такое действительность, если не осуществление вечных законов разума? Всякая другая действительность – временное затмение света разума, болезненный витальный процесс, – а разве может быть вечное затмение солнца, разве солнце не является после затмения в большем блеске и большей лучезарности; разве страдание, претерпеваемое младенцем при прорезывании зубов, бывает продолжительно и не составляет необходимого временного зла для продолжительного добра? Скажут: младенцы часто умирают от процессов физического развития. Правда, умирают младенцы, которые подчинены необходимо болезненным процессам органического развития и которые смертны, но не человечество, которое подчинено болезненным процессам исторического развития и которое бессмертно. Надо уметь отличать разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая призрачна и преходяща. Вера в идею спасает, вера в факты губит. Есть люди, которые отрицают добродетель и достоинство женщины, потому что случай сводил их все с пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали ни одной женщины высшей натуры. И это безверие, как проклятие, служит достойным наказанием безверию, ибо в душе благодатной должен заключаться идеал женщины, – в действительности же должно искать не идеала, а только осуществления идеала; найти или не найти его, это дело случая. То же можно сказать и о людях, которых разложение и гниение элементов старой общественности, продажность, нравственный разврат и оскудение жизни и доблести в современном – заставляют отчаиваться за будущую участь человечества… Здесь, очевидно, демон губит их на факте, за которым они не видят идеи, не понимая, что умирает и гниет только отжившее, чтоб уступить место новому и живому. Если б вместо того, чтоб испугаться демона, они испытали его, он указал бы им на последнее время умиравшей древности, которая в амфитеатрах своих тешилась кровавым зрелищем, как звери терзают христиан, и которая, в слепоте своей, не подозревала, что этою победою над мучениками она сама была побеждена с своими уже опошлившимися богами… Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означает смерти истины вообще… Демон, по своей демонической натуре, зол и насмешлив. Он презирает бессилие и веселится, терзая его; но он уважает силу и сторицею воздает ей за временное зло, которым ее терзает. Он служит и людям и человечеству, как вечно движущая сила духа человеческого и исторического. То страшный и мрачный, то веселый и злой, он, как Протей, неистощим в формах своего проявления, как Антей, неистощим в своих средствах. Он внушал Сократу откровения его нравственной философии и помогал ему дурачить софистов их же обоюдуострым оружием. Он внушал Аристофану его комедии; он нашептывал ритору Лукиану его «Диалоги богов»; он помог Колумбу открыть Америку; он изобрел порох и книгопечатание; он продиктовал Ульриху Гуттену его злую сатиру «Epistolae obscurorum virorum»[3]; Бомарше – его «Фигаро», и много философских сказок и сатирических поэм продиктовал он Вольтеру; он уничтожил ошейники вассалов и рыцарские разбои феодальных баронов, священную инквизицию и благочестивое аутодафе. Гёте схватил его только за хвост в своем Мефистофеле, а в лицо только слегка заглянул ему. Зато колоссальный Байрон не трепеща смотрел ему в очи и гордо мерялся с ним силою духа и, как равный равному, подал ему руку на вечную дружбу. Из русских поэтов первый познакомился с ним Пушкин, и тягостно было ему его знакомство, и печальны «были его встречи с ним… Он не пал от него; но и не узнал, не понял его… И не удивительно: ничто не делается вдруг. Зато другой русский поэт, явившийся уже по смерти Пушкина, не испугался этого страшного гостя: он знаком был с ним еще с детства, и его фантазия с любовию лелеяла этот «могучий образ», для него:



