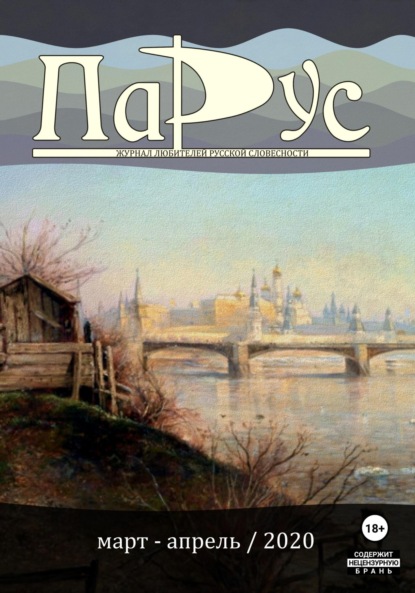
Полная версия:
Журнал «Парус» №81, 2020 г.
Утро выдалось по обыкновению серым, но ветер утих и дождик уютно шуршал по лесному ковру. Андрей, преодолевая себя, подполз к дыре, подтянулся на руках и высунул торс из норы. Ему показалось, что вдали он слышит залпы орудий. Почти не дыша, он вслушивался и вглядывался во все стороны, но ничего не уловил наверняка, выбросил тело на сырую листву и долго лежал, глядя в октябрьское небо, затянутое серебристо-серой паутиной, и ловил ртом пыльцу из дождевых капель. Вчера там, в небе, мерцали светлые точки, спасшие его от гномов, от отчаяния и сумасшествия. Сегодня верхушки гор утопали в густом тумане и на помощь вечерних звёзд рассчитывать не приходилось.
Он подполз к замаскированной с вечера пустой банке из-под тушёнки, на дне которой скопилось немного дождевой воды. Вода была ещё и во фляге, поэтому Андрей опрокинул содержимое жестянки в согнутую ладонь и умыл лицо. «Третий день», – подумал он. И беспокойство снова зашевелилось в нём, отдаваясь болью в ноге.
Спустившись в нору, он позавтракал холодной тушёнкой, сухарями и грушевыми сушками и, открыв вещмешок, достал из него небольшие походные шахматы. Разложив их на земле под световым пятном, начал партию, мысленно беседуя с Алексеем Петровичем – фельдшером из Бердичева, его постоянным партнёром по любимой игре.
Игра на время отвлекла Андрея от боли и тревоги. Но после обеда он вернулся в ставшее за эти три дня привычным тревожное состояние. И вдруг услышал, а скорее почувствовал, как кто-то или что-то подкрадывается к нему, продвигаясь по лесу. Он чуть высунул голову из норы и понял, что не ошибся. На этот раз звуки и ощущения были вполне реальными, он не спал.
Раздался глухой крик напуганной птицы, послышался хруст веток. У Андрея упало сердце. «Живым не сдамся!» Рука потянулась к гранате, всегда лежащей рядом. Впрочем, их, воздушных десантников из отряда особого назначения, подготовленных для диверсий в тылу врага, в плен и так не брали. Обнаружив наколку на руке в виде «крылышек», фрицы убивали таких на месте, считая особо опасными.
«Вот и всё… А может, не заметят…»
Хруст и шорохи приближались. Андрей запоздало глянул на свою зияющую дыру – эх, надо было замаскировать ее как следует… Но поздно. Он отполз к дальней стене и замер в отчаянном ожидании, пока не услышал глуховатый голос командира:
– Андрюшка, живой?
В голове Андрея взорвался и разлетелся цветным фейерверком пушечный залп.
– Валентиныч…
Он не смог справиться с собой, по лицу потекли слёзы. Слова застревали в горле, он только улыбался, смущённо сжимая губы. А Валентиныч с Жориком и Костиком, двумя худолицыми и тоже сероглазыми подручными, уже тащили его из норы. На земле они молча обняли полулежащего и обсыпанного прелой листвой Андрея, и только тогда он со всей силой почувствовал, как не хватало ему в эти три дня живого человеческого тепла, прикосновений огрубевших рук, звуков знакомых голосов и, главное – самой настоящей уверенной радости от того, что всё невероятным образом сложилось, что счастливая звезда его не подвела.
Ещё три дня они тащили Андрея лесом на волокуше из еловых веток. Сначала он пытался идти сам, опираясь на плечи Жоры и Кости, и даже прошёл несколько километров, пока нога совсем не распухла и не начала болеть нестерпимо. Пришлось снова лечь на волокушу.
К вечеру третьего дня они вышли к «точке», где ждал борт ТБ-3, тяжёлый бомбардировщик Туполева.
Когда они летели в ночи по направлению к Украине, Андрей бредил. Позже ребята рассказывали ему, что он всё время просил показать ему небо.
В госпитале, как ему и мечталось, действительно было тепло и сухо. Только не пахло ни борщом, ни галушками – тем, кто мог есть сам, давали щи и кашу, а вместо обворожительных сестричек дежурила пожилая, но ещё черноволосая старуха Анна, которую все называли Нюсей. Когда Андрея привезли из операционной, она озабоченно вздохнула, но потом, блеснув карими глазами, улыбнулась:
– Хорошо, нога на месте осталась, не отпилил её тебе наш Горыныч.
Андрей медленно приходил в себя. Слова старухи Нюси звенели и громыхали в его голове. Он закрывал глаза и ему мерещился летящий по небу карликовый Горыныч с тремя головами.
– На, попей вот.
Старуха подошла и протянула ему гранёный стакан с водой.
Андрей с трудом взял стакан в руки, посмотрел сквозь стекло на множащееся во всех гранях отражение старухиного лица, а потом, со ставшим ему привычным усилием повернул голову на бок. Он словно прилип к койке и уже не слышал голоса старухи, продолжающей что-то говорить про «Горыныча». Из кровати, прямо с подушки, через окно, сквозь сетку ветвей опавшего клёна ему было видно светлеющее небо с ещё угадывающимися на нём точками звёзд.
***
«Мне кажется, так это было», – за три дня до родов говорила она Марии.
И потом ещё часто возвращалась мыслями к той истории о дедушке – к истории, подробностей которой никто не знал и уже не узнает.
Ей не хватало воздуха после родов ещё дня три. Она не могла вставать без опоры, не могла пройти десятка неспешных шагов без одышки, не могла есть, сразу начиная задыхаться. Но рядом мирно сопел носом крохотный младенец с голубыми глазами и льняным чубчиком, отличающийся редкостным спокойствием, деловитостью и деликатностью одновременно. Ей казалось, он был удивителен сочетанием всех этих качеств.
Он был невозмутим, когда в роддоме отключили отопление и все сознательно мыслящие пациенты впали в панику; он безропотно лежал, как солдатик, там, куда его положили, не сдвигаясь с места даже на миллиметр; он послушно давал себя запеленать и всегда точно знал, чего хочет. Но самым невероятным был цвет его глаз: густой, муаровый, насыщенный тёмно-голубой – как цвет дождевых облаков, хранящий память об осеннем небе Австрии, о раненом русском солдате, пролежавшем три дня в земляной яме, о дождливом сумраке и о звёздах, смотрящих на всех, кто хочет их увидеть.
***
Девятого мая они с малышом лежали в её любимой комнате с голубыми обоями. Он проснулся и заворочался, зачмокав губами. Пришло время кормления, и она устроилась поудобнее.
– Сейчас, малыш, я расскажу тебе одну историю.
Алексей КОТОВ. Мера любви
Рассказ с послесловием автора
1
…У мальчишек всегда много дел. Поэтому я не слышал с самого начала этот страшный рассказ бывшего фронтовика «Майора» и едва ли не половина его в моем пересказе это только попытка восстановить хронику событий с помощью логики.
Но я хорошо запомнил то, что услышал, когда подошел к столу.
– …Коля, пойми, тогда я просто запутался, наверное. А может быть, и хуже. Представь, ты переходишь реку вброд, тебя вдруг подхватывает поток воды, приподнимает так, что ты теряешь опору под ногами и тебя несет черт знает куда. Дело-то было не в моей глупости или слабости. «Смерш» он и есть «Смерш», там слюнтяев и дураков не держали, но… От ребят слышал, что самым трудным было из окружения в одиночку выходить. Вроде бы никто тебя никуда не торопит, никто тобой не командует. Но через немцев идти – все равно что со смертью в прятки играть. Вот тогда-то и начинает в тебе шевелиться сомнение, а стоит ли?.. И зачем все это?..
У «Майора» было растерянное лицо и виноватые глаза. Из всех гостей моего отца, как говорила моя мама, он был самым «буйным и невоспитанным». Я бы добавил со всей мальчишеской откровенностью: «а еще веселым!», но, уверен, что не заслужил бы одобрения матери. Короче говоря, я никогда не подозревал, что увижу «Майора» не то чтобы спокойным, а вот таким, словно придавленным грудью к столу какой-то неведомой и недоброй силой. Он сгорбился, его лицо было непривычно мрачным, а полный и, как мне всегда казалось, упругий и упрямый лоб пересекала глубокая морщина.
Мой отец не воевал в Отечественную, не хватило одного года до призыва и – кто знает? – может быть, некое чувство вины тянуло его к фронтовикам. Среди них было много разных людей, в том числе и странных, но дядя Семен по прозвищу «Майор», наверное, был самым заметным.
Он как-то раз сказал:
– Эх, мне бы писателем стать!.. – «Майор» засмеялся и стукнул ладошкой по столу. Он всегда заметно оживлялся, когда к нему, по его мнению, приходили хорошие «идейки». – Какие бы я замечательные романы о средневековых рыцарях тогда написал!..
Я удивился, услышав такое странное желание от бывшего фронтовика и уж тем более «смершевеца». Нет, конечно, я бы сам с удовольствием прочитал приключенческую книгу «про рыцарей», но представить себе дядю Семена в роли писателя я все-таки не мог.
«Майор» взъерошил мне волосы и снисходительно сказал:
– Жизнь – это интереснейшая штука, пацан. А если прожить ее по-настоящему, то к концу она должна стать еще интереснее. Ну, как хорошая книга. Только так почти никогда не бывает. А почему, как ты думаешь?
Я немного подумал и сказал, что не знаю.
– А этого никто и не знает, – лицо «Майора» вдруг стало нарочито сердитым. – Интересно почему?.. Это что, шпионский заговор какой-то?!
Но вернемся к тому страшному рассказу, о котором я упомянул в начале. Напомню, что этот, так сказать, восстановленный монолог дался мне не без труда. В такой работе не так тяжело находить нужные слова, как отсекать лишние, чтобы не расплывались образы. Не думаю, что это удалось мне в полной мере, но не хотелось, чтобы в рассказе «Майора» вдруг зазвучали резкие и откровенно жестокие нотки…
2
– …Этого гада прямо на месте выброски в районе Вильно взяли. Знаешь, я теперь даже его фамилию не помню. Звали Мишкой, а фамилия… Только и помню, что на «ий» кончалась. В общем, на «Вий» похоже. Так и буду его называть, потому что гадом он оказался редчайшим.
Мы тогда особо с такой братией не возились, все понимали, что война к концу идет и нечего тут, понимаешь, с разной мразью возиться. Когда диверсионная группа на месте выброски попыталась отстреливаться, мы им такой пулеметно-минометный «концерт» закатили, что потом только двоих на поле боя нашли – этого Мишку «Вия» и второго, полуослепшего здоровяка. Мишке осколками ноги посекло, а здоровяка, видно, контузило сильно, он нас к себе так и не подпустил. Нож, сука, вынул и тыкает им вокруг себя, зачем-то воздух дырявит. С ним возиться не стали – просто пристрелили, а Мишку пришлось живым брать. Не одобрило бы начальство полного отсутствие пленных.
Дальше что?.. Особого интереса этот Мишка «Вий» не представлял, но начальство решило показательный процесс устроить. Не знаю, для чего это вдруг потребовалось, но видно, и в самом деле нужно было.
Для суда информация нужна. Вот и посадили меня напротив Мишки и его ободранного костыля с пачкой бумаги. Работенка не из легких с таким подонком разговаривать. Казалось бы, все просто, я – спрашиваю, он – отвечает, но нет!.. Ненависть мешает. Он же – русский, как и я. И в своих стрелял, сволочь. Мишка понимал это и частенько усмехался. Как-то раз сказал, мол, мучаешься ты сильно, ударь меня, тебе легче станет. У меня от такой его «жалости» чуть челюсть судорогой не свело. Ну, я в крик, конечно, и кулаком – по столу. Как только сдержался и по роже ему не съездил – не знаю.
В общем, сначала все довольно просто было… Враг он и есть враг, тут нюансов быть не может. Стал Мишка «Вий» о себе рассказывать. Мол, в 1939 году получил пять лет за драку. Какой-то комсомольский лидер (тут он, конечно, совсем похабное слово ввернул вместо «лидер») стал приставать к его жене. Мишка его предупредил. Потом еще раз, а когда однажды жена домой в слезах пришла – физиономию этому «лидеру» набил.
Дали «Вию» пять лет, попал в лагерь. До Москвы, как говорится, рукой подать, всего-то полторы тысячи километров на юго-запад. В лагере два «блатных» барака и пять – для «мужиков». Лес – прямо за колючей проволокой, руби сколько захочешь…
3
…Мишка «Вий» попросил папиросу. «Майор» положил на стол пачку и спички. Мол, черт с ним, пусть дымит, не собачиться же с этим гадом каждые пять минут.
«Вий» глубоко затянулся дымом и продолжил:
– До войны в лагере еще можно было как-то прожить, а начиная с июля 1941 года такая голодуха началась, что хоть ложись и помирай. К тому же «блатные» озверели, чуть ли не последнее отнимали. Они слаженной стаей жили, не то что мы, «мужики». Слово поперек скажешь – «перо» под ребро и пусть рядом с тобой хоть сто «мужиков» стоит, ни один на защиту не бросится.
Что начальство?.. А ничего. Мы лес рубим и мы же как щепки летим… Но не на свободу, а на тот свет. Война человеческую жизнь совсем дешевой сделала.
Начальником лагеря был капитан Кладов. Солидный мужчина!.. Рост под два метра и физиономия как у раненного бульдога. Порядок в лагере его так же интересовал, как чистота в общем нужнике, в который он ни разу не заходил. Кстати говоря, если бы не «блатные», туда вообще нельзя было войти. Вот они и находили «дежурных», и они же заставляли их там порядок наводить.
В конце октября 1941 года к капитану дочка приехала… Беленькая такая, чистенькая, лет семнадцати. Говорят, что тогда в Москве большая паника поднялась и народ на все четыре стороны рванул из белокаменной. Что с матерью девчонки случилось – не знаю, умерла, наверное… А податься ей, кроме как к отцу, видно, больше не к кому было. Я слышал, что, мол, Кладов с родней из Омска пытался списаться, чтобы дочку к ним отправить, только что-то не получалось там у него…
А через месяц убили его дочку. Утром голый труп нашли возле внешней колючей проволоки. Поиздевались над ней здорово, даже глаза выкололи. Я помню, как Кладов мертвую дочь на руках в свой начальственный барак нес… Хоть и гадом он был, но за дочь переживал, конечно, сильно. Из барака через час вышел – виски совсем седые. В руках – автомат. Вообще-то, у нас охрана была винтовками вооружена, на вышках – ручные пулеметы, но у Кладова автомат еще был… ППД. Видно, положено ему было как начальнику для общения с зеками.
На работу в тот день нас не послали. Выстроил Кладов весь лагерь на плацу и спрашивает: «Кто?!» Только одним словом спрашивал и так, словно кулаком бил. Лицо у него… В общем, совсем нехорошая физиономия была, – Мишка хмыкнул. – Совсем в звериную морду превратилось. Зеки стоят и молчат… Потому что все знали, что вечером девчонку блатные во второй барак затащили. Но легче сразу на проволоку броситься, чем такое начальству сказать. «Блатные» подобного не прощали. Папашка ее в это время к начальству отъезжал, вернулся поздно, в комнату дочки заглянуть не догадался, посчитал – спит дочка.
Кладов снова спрашивает: «Кто?!»
Мы молчим… Кладов поднимает «ППД» на уровень своего пуза и велит отойти в сторону троим «блатным» из первого барака и двум «мужикам». Ну, и после третьего «кто?!», почти без паузы – очередь в упор на два десятка патронов. «Зеков» как косой срезало…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Примечания
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 2. С. 383.
2
Шукшин В. М. Собр. соч.: в 4 т. М.: Литература; Престиж книга; РИПОЛ классик, 2005. Т. 4: Рассказы. С. 241.
3
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8. С. 262. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора курсивом, тома и страницы в круглых скобках.
4
Соллогуб В. А. Повести и рассказы. М.: Сов. Россия, 1988. С. 193. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора курсивом и страницы в круглых скобках.
5
О народности образа тройки Достоевский пишет в записной книжке 1875 года: «<…> все знают тройку удалую, она удержалась не только между культурными, но даже проникнула и в стихийные слои России» (курсив Достоевского. — Ю. С.). Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1972–1990. Т. 21. С. 264. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора курсивом, тома и страницы в круглых скобках.
6
Выпадами против здравого смысла наполнено творчество Достоевского. Здравый смысл у него оборачивается или глупостью и ограниченностью, или преступным лукавством. Характерно, что «гость Ивана Федоровича» «оправдывает» свое богоотступничество именно здравым смыслом: «Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: “Осанна”, и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: “Осанна!” Уже слетало, уже рвалось из груди… я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл – о, самое несчастное свойство моей природы – удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, – подумал я в ту же минуту, – что же бы вышло после моей-то “осанны”? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях» (Достоевский, 8, 80; курсив мой. – Ю. С.). Эмблемой здравого смысла будет для Достоевского формула «дважды два – четыре». Сомнения в ней и нежелание принимать этот постулат за истину в последней инстанции стали своего рода иллюстрацией «реализма в высшем смысле» (cм.: [Захаров, 2011]).
7
Любопытно, что в «Дневнике писателя» за 1873 год, размышляя о «вранье» как о свойстве русского человека, Достоевский, приводя примеры лжи из желания «произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие», первым делом обращается к быстрой езде: «<…> не случалось ли ему (читателю. — Ю. С.) раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая, на пари, обогнала железную дорогу и т<ак> д<алее> и т<ак> д<алее>» (Достоевский, 21, 118).
8
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: в 15 т. Л., СПб.: Наука, 1981–2000. Т. 2. С. 169. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора курсивом, тома и страницы в круглых скобках.
9
Есенин С. А. Полн. собр. соч.: в 7 т. М.: «Наука» – «Голос», 1995. Т. 2. С. 82–83.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



