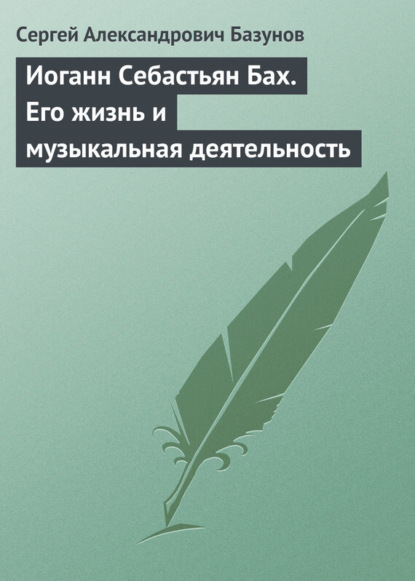 Полная версия
Полная версияИоганн Себастьян Бах. Его жизнь и музыкальная деятельность
Введение в употребление правильного строя клавиатурных инструментов и усовершенствованной аппликатуры неизбежно вызывало потребность в музыкальных образцах, по своей композиции соответствующих названной инструментально-технической реформе. Обстоятельство это очень отчетливо сознавал наш композитор и в последние годы своего пребывания в Кетене деятельно работал над составлением особого сборника музыкальных произведений, которые, по своим художественным достоинствам и особенностям технической разработки, соответствовали бы новым, улучшенным средствам передачи музыки. Окончив свою работу к концу кетенского периода, он обнародовал свой труд в 1722 году под названием “Das Wohltemperierte Klavier” (“Хорошо темперированный клавир”). Этот сборник, впоследствии ставший столь знаменитым, преследовал столько же музыкально-педагогические, сколько и чисто художественные цели, и, так сказать, увенчивал здание баховской реформы. Составленный из большого числа фуг и прелюдий дотоле неведомой степени художественного совершенства, он в то же время служил великолепным руководством для изучения теории построения фуги и в обоих качествах сохранил все свое значение и до нашего времени. Само название “Wohltemperiertes Klavier” указывало, что предлагаемое сочинение рассчитано для фортепиано новой системы строя и по своим техническим трудностям может служить хорошим курсом при изучении техники фортепианной игры. Чтобы составить себе правильное суждение о значении этого замечательного произведения, достаточно подумать о той исторической роли, которую оно играло в последующем развитии музыки и самих музыкантов. Можно именно без всякого преувеличения утверждать, что все наиболее знаменитые музыкальные деятели настоящего и второй половины прошедшего столетия – композиторы как и виртуозы – пользовались этим сочинением Баха как незаменимо ценным музыкальным руководством. Сам Бетховен, как это видно из его биографии, изучал “Wohltemperiertes Klavier” так глубоко и внимательно, что влияние Баха отразилось с несомненностью на многих из его сочинений. Наш Глинка, в бытность свою в Берлине, изучал, как известно, церковную музыку под руководством профессора Дена, и пособием в этих занятиях служило ему то же сочинение Баха. Наконец вот страстно-восторженный отзыв о “Wohltemperiertes Klavier” А. Г. Рубинштейна, который мы встречаем в его книге “Музыка и ее представители”. Находя именно, что это сочинение Баха есть “жемчужина в музыке”, он говорит, что “если бы по несчастью все баховские мотеты, кантаты, мессы и даже музыка к “Страстям Господним” (величайшее сочинение Баха) потерялись и уцелело бы одно это, то нечего было бы отчаиваться, – музыка не погибла” и проч. Таким-то замечательным шедевром ознаменовал и закончил наш композитор время своего пребывания в Кетене. Что касается других сочинений, относящихся к этому периоду его жизни, то по обыкновению они были весьма многочисленны, ибо, обладая огромным дарованием, Бах отличался не менее огромным трудолюбием и, не любя распространяться о своем замечательном таланте, сам охотно признавал в себе достоинство усидчивости и трудолюбия. Поэтому общее число музыкальных сочинений, написанных композитором в течение его жизни, положительно колоссально. В Кетене же, то есть между 1717 – 1723 годами, кроме большого числа фуг и прелюдий, вошедших в упомянутый сборник “Wohltemperiertes Klavier”, написано было также много и других замечательных вещей. Из них мы упомянем, например, серенаду, сочиненную ко дню рождения герцога Леопольда, две токкаты для клавесина (toccata – от toccare – играть на клавиатурном инструменте), шесть весьма замечательных концертов для оркестра; из них особенной известностью пользуется четвертый, а также – труднейший в техническом отношении – пятый. Концерты эти были написаны около 1721 года и посвящены поклоннику Баха Христиану Людовику, маркграфу Бранденбургскому, почему и получили общее название “Бранденбургских”. Наконец весьма интересны четыре оркестровые сюиты этого периода, между которыми лучшей считается сюита D-dur, и проч.
Пребывание и служба нашего композитора в Кетене продолжались не слишком долго, всего лет шесть, и окончились, как сказано, в 1723 году. Правду сказать, Бах становился уже слишком знаменитым для такого второстепенного городка, каким была скромная столица Ангальт-Кетенского герцогства. Его место было, конечно, не здесь, а в каком-либо более многолюдном и крупном центре, где уровень музыкальной просвещенности был бы выше и где гениальному композитору могло представиться более широкое поприще для деятельности; а в таких городах в Германии той эпохи недостатка уже не было. В 1723 году одно из таких именно мест открылось в виде должности кантора знаменитой церкви св. Фомы в Лейпциге. Должность эта, важная и ответственная, могла быть замещена только очень крупным и известным музыкантом, каким был, например, старик Кунау, с такой славой занимавший ее в течение многих последних годов. Преемника ему найти было нелегко, и канторат оставался вакантным.
В это же самое время в Кетене произошли некоторые перемены, в силу которых положение музыкального дела, дотоле так хорошо поставленного под покровительством просвещенного владетеля герцогства, изменилось весьма резко и решительно. Все дело произошло довольно неожиданно и заключалось в следующем. Незадолго до этого времени герцог Леопольд вступил в брак с принцессой Ангальт-Бернбургской. Обстоятельство это, само по себе, казалось бы, совершенно безразличное, имело, однако, вовсе не безразличные последствия для Баха и интересов искусства. Принцесса именно оказалась совершенно равнодушной к музыке, а под влиянием молодой жены охладел к искусству и герцог, ее супруг. Всегда постоянный в своих симпатиях, не способный менять сердечные привязанности, наш композитор сохранил свое расположение к герцогу Леопольду навсегда, несмотря на происшедшую в нем перемену. Но вместе с тем в изменившихся обстоятельствах он усмотрел достаточный и вполне основательный повод оставить службу в Кетене.
Таким образом, сами обстоятельства очевидно складывались в пользу видов, какие композитор мог иметь на лейпцигскую вакансию. Со всех сторон ему говорили о том же, побуждая действовать, и наконец Бах решился. Отправившись в Лейпциг, он исполнил в церкви св. Фомы кантату собственного сочинения (на текст “Jesus nahm”[4] и тотчас же получил официальное приглашение занять свободное место кантора церкви св. Фомы. В мае 1723 года, 38-ми лет от роду, он вступил в отправление обязанностей своей новой должности, которую с тех пор и занимал до самой смерти.
Глава V. Бах в Лейпциге
Служебные обязанности по должности кантора церкви св. Формы. – Музыкально-административная деятельность. – Грандиозное собрание кантат. – Конфликт с университетом. – Служебные неприятности. – Некоторые черты характера Баха
Обязанности Баха по новой должности оказались весьма разнообразными, многочисленными и сложными. Кроме музыкальных занятий в церкви св. Фомы, составлявших предмет его ближайшего и непосредственного внимания, он должен был в качестве кантора посвящать немало часов преподавательской деятельности в состоявшей при церкви школе (Thomasschule); одного этого, казалось бы, было достаточно. Но, по установленному в Лейпциге правилу, должность кантора обязательно совмещалась также со званием “музыкального директора” (Musikdirector) всех городских церквей. В этом последнем ранге он управлял делом церковной музыки всего города и всем личным составом музыкантов и певцов, участвовавших в церковных богослужениях. Он распоряжался всеми городскими органистами, а также всеми хорами, наблюдая за их обучением и руководя разучиванием предназначенной к исполнению вокальной духовной музыки. От него же зависело назначение соответствующих случаям духовно-музыкальных пьес и проч. и проч. Такая масса обязанностей и точное, действительное, а не номинальное только исполнение их были бы едва ли по силам кому бы то ни было; нашему же композитору, который, в сущности, никогда ничем не был, как только музыкантом, такая задача была не по силам тем более. Единственным выходом из такого затруднительного положения являлось обладание чутьем особого рода, которое всегда подсказывало бы человеку, на что можно было смотреть сквозь пальцы, к которым из обязанностей можно, без ущерба для себя, относиться лишь формально, что необходимо было даже умышленно не замечать и с кем и как нужно ладить. Но читатель, уже составивший себе понятие о характере Баха, поймет, что никакого такого чутья в его натуре не было, что в житейских делах он был во многих отношениях совершенный ребенок, несмотря на свой уже зрелый возраст, и что искусство применяться к обстоятельствам – не особенно почтенное искусство ладить с нужными людьми – было совершенно чуждо его благородной натуре артиста. В крайних случаях, когда ему случалось не исполнить или даже нарушить свои обязанности, он делал это открыто и прямо, не маскируя и не пытаясь маскировать свои прегрешения. Впрочем, образчики его манеры относиться к неисполнимым обязанностям уже знакомы нам по арнштадтскому периоду его жизни.
Так же пошли дела и в Лейпциге почти с самого начала вступления Баха в должность кантора церкви св. Фомы. Со времени Арнштадта в житейских делах и отношениях композитор ничему не научился и ничего не забыл. Никто из его предшественников не исполнял более добросовестно, с большим уменьем и равным талантом собственно музыкальную часть его должностных обязанностей, но, с другой стороны, никто не исполнял так плохо прочих обязанностей, связанных со званием кантора; никто не способен был до такой степени запустить и забросить школу и управление ею. Словом, никогда еще Лейпциг в лице своего кантора не видел более великого музыканта и более плохого чиновника. Что касается преподавательских обязанностей в церковной школе, то новый кантор с течением времени стал до того пренебрегать ими, что под конец, по словам совета церкви св. Фомы, “вовсе передал их своему помощнику”.
Но, сбывая с рук, с такой наивной бесцеремонностью, одну часть своих обязанностей, маэстро тем с большим рвением отдавался другой части их, более близкой его сердцу. В деле музыкального управления он не знал себе соперников. В этой области ничто не казалось ему утомительным, не важным или второстепенным: все, что касалось искусства, было близко ему, привлекало и поглощало его внимание целиком. Этому делу он отдавался весь и, с точки зрения того же церковного совета, частенько даже пересаливал в своем усердии.
В Лейпциге Бах поставил себе ближайшей и главной целью развитие церковной музыки, не стоявшей, по его мнению, на должной высоте, до возможного уровня совершенства и для достижения этой важной цели не щадил ни трудов, ни сил. Постоянно наблюдая за деятельностью подведомственных ему городских органистов, самолично разучивая с певцами их вокальные партии, обучая музыке – почти всегда бесплатно – всех, могущих участвовать в церковных хорах, он главное внимание свое обращал именно на эти хоры. Они казались ему не способными удовлетворить потребности большого музыкального центра, каким был Лейпциг, не довольно обученными, не отвечающими требованиям строгой художественной критики. Делая сам все, что от него зависело, он осаждал городской совет докладами о необходимости и с его стороны мероприятий по усовершенствованию музыкального дела в городских церквях, о необходимости реорганизации хоров и т. п. Однако совет оставлял все его проекты без внимания, отнюдь не разделяя его горячего увлечения. Совет никак не мог понять источника такой страстной деятельности, недоумевая, из-за чего, собственно, так хлопочет чудак-кантор и отчего ему не сидится спокойно на месте, так хорошо оплачиваемом. Но Бах со своей стороны не понимал равнодушия совета, который мог индифферентно относиться к столь важному делу, как искусство, и, не встречая поддержки со стороны городских властей, продолжал добиваться намеченной цели самостоятельно, одними собственными средствами.
Из числа этих средств мы уже упомянули о бесплатном обучении, которое он предлагал всем желающим участвовать при исполнении музыки в церквях. Другое средство улучшения хоров он видел в следующем. Всеми мерами стараясь привлечь к музыкальному участию в церковном богослужении молодежь местного университета, он сближался с учащимся юношеством и как мог старался заинтересовать лейпцигское студенчество в художественном исполнении музыки на церковных воскресных и праздничных службах. И надо сказать, что при энергичном характере и настойчивости, какие композитор умел проявлять, когда дело касалось интересов его любимого искусства, хлопоты его в конце концов не остались без результатов. С течением времени молодежь откликнулась на призывы Баха, и церковные хоры стали пополняться хорошими молодыми голосами интеллигентных исполнителей.
Когда же музыкальные интересы города требовали от нашего музыканта личных его трудов в виде новых композиций, тогда дело принимало совсем иной оборот. Тут некого бывало уговаривать, не в чем увещевать, нужны были только собственные талант и труд, и ни за тем, ни за другим у Баха дело никогда не останавливалось. Как уже было упомянуто выше, в обязанности канторов церкви св. Фомы входили, между прочим, выбор и назначение к исполнению в церквях пьес, соответствующих предстоящим церковным службам. Надо также сказать, что до Баха предшественники его – хотя иногда люди, хорошо понимавшие музыку, – не особенно стеснялись выбором этих пьес, находя, что полное соответствие музыки с содержанием церковной службы является роскошью, едва ли достижимой. Но Бах смотрел на дело иначе. Соответствие, притом возможно точное, музыки и слов богослужения он находил очень важным и необходимым. А так как из числа имевшихся произведений церковной музыки далеко не всегда можно было сделать удачный выбор, то наш композитор не остановился перед грандиозным предприятием – самому пополнить ощущаемый недостаток. Мы называем эту задачу грандиозной, имея в виду размах, с каким Бах задумал свое предприятие. Чтобы объяснить дело, достаточно сказать, что для исполнения своего проекта композитор написал такую массу новых церковных кантат, что, присоединив к ним те, которые были им написаны раньше, он мог составить сборник, заключающий в себе 295 кантат. На каждое воскресенье и на каждый большой праздник предназначалась таким образом специальная пьеса, но даже и при таком употреблении сборника должно было хватать на целых пять лет. Поистине не знаешь, чему тут следует удивляться больше, непостижимому ли трудолюбию или неиссякаемому богатству гениального воображения автора, ибо, по отзывам самых компетентных ценителей, весь сборник и все эти кантаты, несмотря на их многочисленность, отличаются безусловно художественными, а часто недосягаемо прекрасными достоинствами и неизменным разнообразием. Особенно замечательными считаются в этом сборнике знаменитая кантата D-moll и некоторые другие…
Но, несмотря на всю массу работы, забот и всякого рода хлопот, которые поглощали его время, неутомимый труженик находил еще досуг и возможность отзываться на всякое новое предприятие, имевшее отношение к искусству, как бы решившись отдать его интересам все свои силы и все свое время. Так, с 1729 года он согласился стать во главе действовавшей тогда в Лейпциге музыкальной ассоциации, известной под названием “Музыкального общества Телемака”, руководил музыкальными празднествами, которые общество устраивало, и опять-таки писал музыку для таких празднеств. Его энергия, по-видимому, не знала границ…
Такая плодотворная деятельность, казалось бы, должна была вызывать удивление и восторг во всех, кто имел случай знать маэстро и вступал с ним в какие-либо отношения, однако в действительности было не так. Не удивление и восторг встречал композитор в окружающих его людях, и горизонт его личной жизни оставался далеко не всегда ясным. Напротив, этот горизонт в лейпцигский период особенно часто заволакивался довольно мрачными тучами. В некоторых из своих писем того времени гениальный труженик горько жалуется на зависть, которая, по его словам, царила в Лейпциге. Иногда же, опутанный, как сетью, переживаемыми в Лейпциге неприятностями, он начинал грустить и жаловаться, с тоскою вспоминая о тех счастливых временах, когда он еще не был кантором церкви св. Фомы. Одно время служебные неприятности до такой степени утомили его, что он собирался даже сложить с себя лейпцигскую должность, и только некоторые совершенно случайные обстоятельства заставили его отказаться от такого намерения.
Первой неприятностью, которую пришлось пережить Баху в Лейпциге, было его столкновение с местным университетом. Распря началась из-за органиста университетской церкви, некоего Гернера, с которым наш композитор как-то не поладил. Проблема заключалась в том, что университетский органист в сфере своей деятельности не был подчинен Баху, и оба музыканта никак не могли разграничить обоюдной компетенции в деле управления. В довершение всего, к этому столкновению примешались еще денежные счеты, причем Бах, никогда не бывши корыстолюбивым, тем не менее принципиально не соглашался уступить противнику право на часть своего вознаграждения, как того требовал университет. Хуже всего было то, что принципиальный характер спора исключал всякую возможность уладить его каким-нибудь мирным соглашением, и, к общему прискорбию, дело зашло так далеко, что потребовалось вмешательство короля, которому Бах жаловался на университетскую администрацию.
Другое столкновение, еще более неприятное для композитора, представляется, однако, с точки зрения постороннего наблюдателя, неизбежным и таким, какое надо было предвидеть, если вспомнить характер отношений Баха к своим преподавательским обязанностям в церковной школе. Столкновение это произошло с советом церкви св. Фомы, причем инициатором дела явился недруг Баха, ректор церковной школы Эрнести. Великого композитора обвиняли в том, что он небрежно относился к своим обязанностям по школе. Печальнее всего в этом деле было то, что со строгой точки зрения предъявленное обвинение было вполне правильно, и по существу Бах ничего не мог сказать в свое оправдание. Не мог же он в самом деле оправдываться, ссылаясь на свою гениальную и в высшей степени плодотворную деятельность в области искусства, которая перед судом потомства, разумеется, могла оправдать какие бы то ни было упущения по службе. Такая “отговорка” в глазах совета, очень мало склонного ценить артистические заслуги композитора, была бы без сомнения признана не относящейся к делу. Таким образом, не имея оправданий, уважительных в глазах его судей, маэстро должен был молча страдать, видя торжество своего обвинителя, ректора Эрнести. А совет тем временем разрешал дело каким-то оскорбительным сокращением жалованья виновного, что еще более раздражало чуткое самолюбие артиста. Тогда-то Бах и задумал было отказаться от должности, но, к счастью для композитора, его недруг Эрнести около этого времени умер и место ректора занял хороший приятель Баха, Гесснер. Дело кое-как пришло в порядок и уладилось, a наш музыкант остался на своем месте.
Если теперь рассмотреть те общие соображения, на которые наводят грустные обстоятельства, сейчас рассказанные, то невольно возникают следующие вопросы. Неужели было в самом деле необходимо так отравлять душевное спокойствие великого человека, столь необходимое для его высокой деятельности? Или: неужели его деятельность и плоды ее в то время совершенно не оценивались по достоинству? Ответы на эти вопросы очевидны. Несомненно и достоверно известно, что правильной и полной оценки Баху при его жизни, а также, впрочем, долгое время и после смерти, не давал почти никто, всего же менее люди, близко к нему стоявшие, как, например, члены совета или какой-нибудь ректор школы, имевший с ним личные счеты, или наконец университетский органист, который в своей распре с Бахом мог иметь в виду просто денежные соображения и увеличение своих доходов. Такой сугубо прозаический характер отношений людей толпы к современным им гениальным деятелям – явление обычное и не новое. Однако, с другой стороны, внимательное изучение биографического материала приводит нас и к другому выводу, – а именно, что в характере самого композитора лежали некоторые свойства, вполне достаточные для того, чтобы создавать ему частые неприятности, вроде описанных выше. В характере его именно лежали несомненные элементы неуживчивости, совершенное неуменье приспосабливаться к людям, о чем мы упоминали уже раньше, и наконец чрезмерная вспыльчивость. Его биограф Филипп Шпитта отмечает как особенность темперамента нашего артиста то обстоятельство, что он “не избегал борьбы”. Выражаясь более определенно и без излишней сдержанности, мы, следовательно, должны признать, что он нередко сам напрашивался на разные пререкания и распри, на борьбу, о которой говорит биограф. Болезненно-чуткое самолюбие, также свойственное его натуре, способствовало обострению всякой такой борьбы, раз она была начата. Ко всему этому следует прибавить, что одним из главных источников неприятностей, постигавших Баха, бывало то ложное положение, в которое он попадал, берясь за несвойственные ему обязанности школьного преподавания.
Так или иначе, страдая по своей или по чужой вине – безразлично, Бах и в лейпцигский период своей жизни, как всегда, искал успокоения в постоянном своем прибежище от житейских невзгод – в искусстве, причем, забывая все окружающие его дрязги, предаваясь высоким художественным мечтам, он облекал их в недосягаемо прекрасные формы своих величайших творений.
Да, именно в лейпцигский период жизни, в период полной и окончательной духовной зрелости, созданы были Бахом все наиболее возвышенные, наиболее гениальные его произведения. Но так как лейпцигский период обнимает собою очень многие годы (1723 – 1750), то для удобства обзора сочинений, к нему относящихся, мы разделим его на две части и в первой рассмотрим крупнейшие произведения, написанные композитором с 1723 по 1734 год.
Глава VI. Музыкальная деятельность 1723 – 1734 годов
“Музыка Страстей”. – Оратории. – Кантаты. – Мотеты
Если собрать все, что было написано Себастьяном Бахом по части светской музыки, то вся совокупность этих произведений должна положительно потонуть в бесчисленном множестве произведений его церковной музыки. В качественном отношении светская музыка его также не может идти в сравнение с музыкой духовной: все величайшие творения его принадлежат этой последней. Таким образом, с точки зрения характера и направления своей музыки Бах является по преимуществу поэтом религиозных настроений. В начале нашего очерка мы уже объясняли причины и логическую необходимость именно такого направления его творчества, дальнейшие же жизненные обстоятельства и впечатления лишь содействовали развитию и окончательному укреплению в нем того же направления, постоянно приводя композитора в соприкосновение с церковным органом, церковью и ее потребностями. Обозревая, вместе с важнейшими событиями жизни Баха, более крупные явления его творчества, мы подошли теперь к крупнейшему из них – знаменитой и всесветно прославленной его “Passionsmusik” (“Музыка Страстей Господних”), творению, послужившему одним из главных оснований его всемирной славы; произведению, в котором религиозное направление его гения отразилось едва ли не всего ярче, характернее и грандиознее. Но обратимся к самому сочинению.
Прежде всего нужно знать, что под названием “Passionsmusik” Бах в течение своей жизни успел написать не одно, а несколько сочинений. Название “Passionsmusik” означало музыку или музыкальное изображение Страстей Господних, излагаемых Евангельским текстом четырех Евангелистов. Из всех этих сочинений Баха до нас дошли, однако, лишь три, а именно: музыка на тексты Евангелиста Матфея, Иоанна и Луки. Впрочем, последнее произведение, по принадлежности своей перу Баха, долго считалось сомнительным, и хотя в настоящее время признано также его сочинением, но, будучи в художественном отношении гораздо ниже двух остальных, признается лишь юношеской работой композитора. Из двух остальных сочинений на тему о Страстях музыка на текст Евангелиста Иоанна считается более ранним произведением, которое могло быть написано еще в Кетене, но исполнялось в первый раз в Лейпциге около 1724 года. По своим музыкальным достоинствам эта работа также далеко уступает третьему из дошедших до нас сочинений Баха на этот евангельский сюжет. Таким образом, та музыка, которую обыкновенно понимают под названием “Passionsmusik” Баха и которая так справедливо считается одним из величайших шедевров композитора, есть собственно сочинение, написанное на текст Евангелия от Матфея. Оно было написано, несомненно, в Лейпциге, между 1723 – 1734 годами, но позже музыки на текст Евангелиста Иоанна.
Сама идея – музыкально иллюстрировать Евангельское повествование о Страстях Господних – не принадлежала Баху. Она много раз разрабатывалась до него, так что до него же успела выработаться и установиться довольно определенно сама форма этой музыки, и нашему композитору принадлежит здесь, как и во многих других случаях, честь окончательной разработки и возведения в “перл создания” этой формы музыки. Что же касается собственно драматической основы, в которую для целей музыки предварительно приходилось переработать повествовательный материал Евангелия, то драматическая основа эта вырабатывалась путем историческим и пережила очень долгий процесс преемственного творчества.



