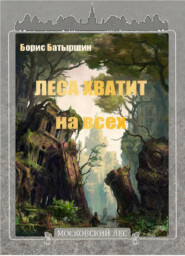скачать книгу бесплатно
– О Зелёной Проказе ходит множество слухов, от восторженных – она, дескать, чуть ли не как панацея, исцеляет прочие болезни, вплоть до самых пугающих…»
Яков Израилевич перевернул страницу. Читать дальше не хотелось. Что, в самом деле, ценного (в профессиональном плане, разумеется) можно извлечь из интервью на популярном телешоу с претензиями на интеллектуальность? Если ты, конечно, не домохозяйка в глухой саксонской дыре вроде Карл-Маркс-Штадта. Впрочем, сейчас он, кажется, называется, как-то иначе. Хёмниц, Кемниц…
Да и наплевать.
«Вестник Биофака» – издание солидное, с репутацией, несмотря на ничтожный тираж в три-четыре сотни экземпляров. Говорят, за МКАД его тонкие книжицы, отпечатанные на рыхлой серой бумаге на примитивном ротаторе, считаются чуть ли не библиографической редкостью – в среде понимающих людей, разумеется. Во всяком случае, стажёры и аспиранты, которых регулярно присылают для прохождения практики, стараются увезти с собой десяток-другой экземпляров. Особенно с тех пор, как пор, как Яков Израилевич пошёл на поводу у завкафедры ксеноботаники профессора Адашьяна согласился публиковать по нескольку страничек из своего «определителя Фауны Московского Леса» – с карандашными рисунками и комментариями тех, кому посчастливилось иметь дело с образцами этой самой фауны. Или, наоборот, не посчастливилось.
Резоны заведующего кафедрой можно было понять: в негласном рейтинге Биофака не последнюю роль играло то, сколько страниц очередного выпусках «Вестника» занимают материалы, предоставленные той или иной кафедрой. А вкладки со скверными фотокопиями страничек «Определителя» (большего университетская типография с её антикварным оборудованием потянуть не могла, а печатать «Вестник» за МКАД заведующий Московским Филиалом отказывался категорически) быстро стали чуть ли не главной достопримечательностью выпусков. Кое-кто уже начал их коллекционировать, а Серёга-Бич как-то упоминал, что на Речвокзале и ВДНХ выпуски «Вестника» стабильно прибавляют в цене, и кое-кто из посредников, например, знаменитый владелец «Старьё-Бирём» Рубен Месропович Манукян (известный больше, как Кубик-Рубик) даже стал принимать заказы из-за МКАД на очередные номера.
Так что, оставалось только удивляться – зачем отводить два полных разворота на никчёмный, в общем-то, материал, простое повторение прописных истин? Может, дело в том, что главное действующее лицо, та самая итальянская исследовательница, в данный момент находится здесь, в ГЗ – и отнюдь не в роли простой экскурсантки?
Яков Израилевич вздохнул и перевернул страничку. Хочешь-не хочешь, а читать приходилось – профессор Адашьян не зря отпустил туманный намёк, что госпожа Монтанари вскорости может посетить кафедру. А за ней – опять же, если верить слухам – стоят весьма солидные спонсоры. И средства из их фондов весьма пригодятся кафедре ксеноботаники, развернувшей в последнее время несколько новых исследовательских программ.
Так что – читайте, доцент Шапиро, знакомьтесь с образом мыслей будущего визави, и не чирикайте. Не в той вы, дорогой коллега, должности…
«…несмотря на пугающее название, Lebbra Verda, Зелёная Проказа, не имеет никакого отношения к своей грозной «тёзке». Более того, она даже не является «Лесной патологией». Это своего рода комплекс болезненных проявлений – утрата социализации, навыков речи и повседневной деятельности, резкие изменения моторики организма – который возникает у людей, живущих за пределами Леса, но при этом злоупотребляющих его продуктами. Точнее – препаратами, созданными на основе этих продуктов. Не секрет, что существует целая индустрия, не всегда легальная, использующая компоненты, импортируемые из Леса. И если в некоторых случаях, – парфюмерия, косметика, официальная фармацевтика – препараты проходят апробацию, то чёрный рынок не preoccuparsi[1 - Беспокоиться (итал.)], как это… не за-мо-ра-чивается побочными эффектами. Речь не идёт непременно о наркотиках. Афродизиаки, стимуляторы, иммуномодуляторы… Однако, по большому счёту, Зелёная Проказа – не что иное, как тяжёлая форма абстинентного синдрома.
– Вы хотите сказать, что Лес подсаживает людей на свою иглу?
– Grossomodo та него. Как и в случае с Лесной Аллергией, мы имеем дело с отсутствием у большинства людей резистентности к продуктам Леса. Однако, если при эЛ-А это абсолютное неприятие, rigetto, отторжение, то Проказа, напротив, формирование зависимости. Известно, что она проходит быстро и безболезненно, стоит поражённому организму оказаться в Лесу.
Насколько я понимаю, существуют серьёзные осложнения…
– Евгений, вы снова употребляете клинические термины. Это не осложнения, это conseguenze, adattamento[2 - последствия, адаптация (итал.)]. Организм меняется для жизни в новых условиях. Certo, со стороны эти изменения могут выглядеть непривычно. Да, зелёная кожа, разрез глаз, – и это только лёгкая форма мутации. Но это не нарушает функций организма, напротив, modificaro, улучшает его в соответствии с требованиями среды.
– И лечение за пределами Леса невозможно?
– Dio mio! Снова «лечение». Именно от этого отношения возникают те отвратительные явления, которые мы наблюдаем в обществе. Вы знаете, что в Южной Америке существуют целые лагеря для dei Verdi, «зеленушек» – по-русски так просторечно называют людей с проявлениями Проказы? Их пытаются именно лечить, per forza, насильно. Честнее в таком случае даже как в США – отправлять в Лес поголовно. Я понимаю, что Манхэттен – не лучшее место для жизни, но принудительное заключение – это barbarie assoluta, fascismo[3 - Абсолютное варварство, фашизм (итал.)].
– Политика ворвалась в нашу беседу. Так что же происходит с… эээ… зеленушками, оказавшимися в Лесу, кроме выздоровления? Я имею в виду те случаи, когда изменения заходят достаточно далеко.
– Вы говорите о так называемых «аватарках». Увы, Евгений, но здесь я не могу выступать экспертом. Моя стажировка, как вы помните, проходила в стенах МГУ, и я была лишена возможности личного общения с такими людьми. Вот теперь, когда у меня будут полевые исследования, я всё узнаю и, обещаю, по возвращении всё расскажу…»
Дочитав до этой строки, Яков Израилевич скривился, словно откусил лимон. И почему любой учёный-замкадник, сумевший выбить грант на работу в Лесу, нисколько не сомневается, что именно ему суждено осчастливить страждущее человечество поразительными открытиями? Как будто те, кто годами сидят в стенах Главного Здания, и не могут выйти хоть на пару десятков шагов наружу (Эл-А, будь она неладна!) мышей тут не ловят! Посмотрел бы он, доцент Шапиро, чего добьются эти импортные «умники и умницы», не будь у них под ногами твёрдого фундамента, заложенного десятками лет работы Московского Филиала! Но нет: рвутся, едут, спешат ошеломить провинциалов грандиозными планами – а потом убывают несолоно хлебавши, и хорошо, если без серьёзного ущерба для организма. Хотя к сеньорите Монтанари это относится в меньшей степени – она уже стажировалась в Московском Филиале а, следовательно, имеет некоторое представление о реалиях как Леса, так и научного коллектива, обосновавшегося в ГЗ…
«…стоит упомянуть о другой стороне Лесной зависимости – о Зове Леса. Академически говоря, именно он есть полная противоположность Лесной Аллергии. Люди с эЛ-А не могут жить в Лесу, люди с ЗА не могут жить вне Леса. Однако, проявления его совершенно иные. Аллергия, как мы уже говорили, вызывает соматическую реакцию организма – удушье, кожные поражения, е cosi via[4 - И так далее (итал.)]. В свою очередь, Зов действует на уровне психики. У людей, пытающихся покинуть Лес, возникают сильнейшие головные роли, глубокая, вплоть до попыток суицида, депрессия, в отдельных случаях – признаки разрушения личности. Как и в случае Лесной Проказы, всё это почти мгновенно исчезает при возвращении в Лес. Однако, как и эЛ-А, Зов может быть разной степени тяжести; при самой тяжёлой форме патологии развиваются при пересечении МКАД, страдающие же лёгкой формой могут удаляться от Леса на десятки, в отдельных случаях, сотни километров. Главное, что следует отметить, – Зову Леса в той или иной степени подвержены все, кто прожил на его территории больше двух лет.
Самая же неприятная особенность Зова Леса заключается в том, что он, как и Проказа, может выработаться за пределами Леса у тех, кто принимает произведённые из лесных компонентов препараты – лекарства, наркотики, БЛДы. В сочетании с Лесной Аллергией это обрекает человека на жалкое существование в пределах узкой, в несколько километров территории, в варианте Московского Леса – по контуру МКАД.
Ходят слухи, что средством для выработки сопротивления Лесной Аллергией может служить секс с теми, у кого имеется к ней иммунитет. Верно ли это и в случае других лесных патологий?
– Евгений, не верьте шарлатанам. К сожалению, в науке их предостаточно. Есть люди падкие на гранты. А суеверий внутри самого Леса – великое множество. Во время работы в МГУ меня обещали познакомить с одним molto straordinari[5 - Весьма необычным (итал.)]персонажем. Говорят, он настоящий ко-ло-дезь историй о Лесе. Точнее, даже познакомили. Ahime[6 - Увы, к сожалению (итал.)], по некоторым причинам, наше общение не смогло быть достаточно продуктивным.
Но неважно. Перед тем, как попрощаться, я снова хочу повторить самую важную вещь, в которой я уверена: все так называемые Лесные Патологии имеют один источник. И его секрет я намерена раскрыть…»
Яков Израилевич с трудом справился с накатившим вновь раздражением. Раскрыть она намерена, вот как! А ведь речь идёт о загадке, над которой учёные в ГЗ бьются далеко не первый год. Нет, но до чего самоуверенная девица! Одно хорошо – в Лесных болячках разбирается, на весьма приличном уровне. Некоторые нюансы, содержащиеся в тексте, позволяют уверенно об этом говорить. Хотя, конечно, проверить не помешает…
Скрипнула входная дверь.
– Bon giorno, signore!
Женский голос – нет, не голос, а чарующее, подлинно итальянское сопрано, при звуках которого перед глазами немедленно возникает знойное неаполитанское побережье, оливковые рощи на крутых склонах, античные руины и черноволосые смуглые красавицы. Яков Израилевич от неожиданности закашлялся и повернулся, едва не опрокинув вращающийся лабораторный табурет – внешность гостьи полностью соответствовала её голосу.
– Здра… – то есть, бон джорно, сеньорита Монтанари. Счастлив приветствовать вас во вверенной моим заботам… э-э-э… лаборатории Факультета Биологии Московского государственного Университета!
Гостья из солнечной Италии никак не отреагировала на выданный завлабом казённый оборот. Она яркой бабочкой впорхнула в комнату и защебетала, мешая русские и итальянские слова, и Якову Израилевичу понадобилось немало усилий, чтобы как-то вклиниться в этот поток и выставить прочь любопытствующих, по одному просачивающихся в кабинет. Последним за дверь вышел Умар. В отсутствие Бича сильван вполне обжился в лаборатории – выполнял мелкие поручения за пределами ГЗ, а заодно – проходил с помощью сотрудников лаборатории ускоренный курс наук, потребный для поступления на подготовительное «Лесное отделение» отделение университетского колледжа. Особенно усердно помогали ему молоденькие лаборантки, одна из которых, прежде чем покинуть кабинет завлаба, смерила итальянскую гостью вызывающеревнивым взглядом.
Уже через пять минут выяснилось, что сеньорита (что вы, зовите меня просто Франа, я уже привыкла…), счастлива представившейся возможности поработать в лаборатории экспериментальной микологии, поскольку надеется проверить одну свою гипотезу. И не будет ли глубокоуважаемый signore Шапиро столь любезен, что ответит на несколько её, Франны Монтанари, вопросов. Для начала: не объяснит ли signore, как именно получены результаты, на которые он ссылается в своей статье, опубликованной в…
Яков Израилевич тяжко вздохнул и приготовился объяснять.
* * *
– Слыхали новость, Лавр Фёдорович? Наша Франа времени зря не теряет, Доцент Шапиро подал Адашьяну план-график исследовательских работ на ближайший квартал. Тема сеньориты Монтанари – в числе приоритетных. Даже выходы в Лес, на полевые исследования предусмотрены! Предупреждал я: наплачемся мы с этой замкадной профурсеткой…
Симагин поморщился. Он не терпел упоминаний о собственных промахах. Но, увы, доцент Семибоярский прав – он действительно предупреждал. Мало того: буквально умолял патрона отнестись к бывшей аспирантке терпимее, не создавать проблем на пустом месте.
Заведующий лабораторией едва сдерживался, чтобы не наорать и на Семибоярского, и на лаборантку Зоечку, испуганно забившуюся в угол, и на аспиранта Петрозаводского, бочком пробирающегося к двери в коридор – тяжёлый характер завлаба был хорошо известен сотрудникам. Это его-то, профессора Симагина, амбиции – пустое место? Но кто ж мог подумать, что итальянская гостья, оттрубившая в симагинской лаборатории без малого пять месяцев, вернётся назад не просто с громадьём собственных (тоже, надо заметить, весьма амбициозных) планов, но и имея за спиной солидное финансирование. И вдобавок, его источником был тот же фонд, что оплачивал две трети проектов самого Симагина, поскольку у узколобых идиотов из Научного Совета средств не нашлось. Приходилось искать поддержки на стороне, и профессор её нашёл – в виде грантов одного из частных фондов, зарегистрированных в Сан-Франциско.
Увы, в Московском Филиале с подозрением относились к любым организациям, так или иначе, связанным с Церковью Вечного Леса – репутация у этой организации, была, мягко говоря, неоднозначной. А спонсор Симагина был её «дочкой» и нисколько этого не скрывал. К тому же, фонд вёл свои дела этот в полном соответствии с заветами старика Сороса, по слухам – одного из учредителей ЦВЛ, и ни на минуту не оставлял своих подопечных без внимания.
Любопытно, подумал профессор, верны ли другие слухи, согласно которым дряхлый венгерский упырь жив до сих пор – причём исключительно благодаря геронтологическим снадобьям, разработанным в Московском Лесу? Но, так или иначе, представители фонда регулярно наведывались в Московский Филиал, вникали во все детали работы лаборатории и мягко, но достаточно навязчиво подталкивали Симагина в определённом направлении. В итоге, профессор и сам не заметил, как лаборатория, заточенная исключительно под генетические исследования, чем дальше, тем глубже переориентировалась совсем на другую проблематику. И у профессора были все основания полагать, что очаровательная сеньорина Монтанари вольно или невольно играет роль очередного эмиссара. Нет, вряд ли она прислана сюда в качестве проверяющего. Скорее, дело в теме её исследований – видимо, фонд (читай – ЦВЛ) серьёзно в них заинтересовано и теперь хочет, чтобы Симагин отработал полученные деньги, оказывая итальянке всяческую поддержку.
И надо же было ему повздорить с итальянкой! Нет, она, конечно, сама виновата: не следует говорить с профессором, человеком заслуженным, признанном в научном мире, в столь бесцеремонной манере. Фонды там, или не фонды – простой вежливости ещё никто не отменял, как и субординации. Раз уж приехала работать – изволь снова вливаться в коллектив, продемонстрируй уважение, понимание научной субординации и дисциплины – и вот тогда, тогда…
Увы, у сеньориты Франы оказалось своё мнение по этим вопросам, и скрывать она его не собиралась. Последовал получасовой разговор на повышенных тонах, закончившийся громким скандалом со взаимными обвинениями в научной слепоте и бездарности. После чего гостья удалилась, громко хлопнув дверью, заявив напоследок, что она и сама найдёт тех, кто поможет ей в работе.
И вот, пожалуйста – нашла.
Дурную новость принёс доверенный помощник профессора, доцент Семибоярский. Начисто обделённый способностями учёного-исследователя, он компенсировал этот недостаток недюжинным талантом к подковёрным интригам, а так же обширными связями – и в сугубо университетской среде ГЗ, и за МКАД и даже среди лесовиков. В том числе, и такими, о которых доцент предпочитал не упоминать, а профессор – не спрашивать. И стоит ли удивляться, что именно Семибоярский принёс известие о том, что сеньорита Франа отыскала единомышленников не где-нибудь, а на кафедре ксеноботаники, под крылышком профессора Адашьяна, с которым у Симагина были давние счёты, и не одни только научные?
Положительно, пора что-то срочно предпринимать. И дело вовсе не в обиде на взбрыкнувшую девицу – нет, много для неё чести. Симагин имел все основания полагать, что от отзыва, который та даст по возвращении, зависит то, как спонсоры будут перераспределять гранты. Возвращаться на скудный университетский паёк, когда уже успел привыкнуть к жирной заграничной кормушке – кто же такому обрадуется?
А пока не стоит демонстрировать, как сильно задело его предательство бывшей аспирантки – чего доброго, прочие сотрудники расценят это, как проявление слабости. Допустить такого в собственной лаборатории Лавр Фёдорович, разумеется, не мог. Он кивнул помощнику на дверь кабинета – высоченную, двойную, с узким тамбуром, обеспечивающую идеальную звукоизоляцию.
Предстоял долгий разговор.
II
Московский Лес,
Ходынская улица,
Нора.
Пышный рыжий хвост с белым кончиком мелькнул в нависших над поляной ветвях – мелькнул, и исчез, будто его никогда не было. Виктор помахал на прощание рукой и подбросил на ладони посылку. Узкий футляр в форме цилиндра, длиной был изготовлен из обычной бересты. Он зажал футляр под мышкой и попытался откупорить второй, целой рукой. Крышка сидела крепко.
– Лешачья работа. – объяснила Ева. Она подошла сзади и обняла своего мужчину за плечи. – Яська доставила?
– Кто ж ещё? Другие здесь не ходят.
Из всех почтовых белок о местонахождении Норы, двухэтажной кирпичной башни, возведённой ещё в девятнадцатом веке и неведомо как сохранившейся в кварталах, прилегающих к Белорусской железнодорожной ветке, знала лишь Яська. Она же числилась доверенным курьером егерей. И кроме того – была родной дочерью Хранителя Норы.
История эта могла бы стать сюжетом телесериала-мелодрамы. Несколько лет назад у дочери отставного спецназовца Виктора Чередникова диагностировали неоперабельный рак. Отец отказался принять неизбежное и обратился к приятелю, обитателю Московского Леса. Тот откликнулся и прислал нужное лекарство – но оно, как это нередко случалось с лесными снадобьями, оказалось пуще болезни: взамен побеждённого рака девушка обзавелась Зелёной Проказой. Судьба несчастной была предрешена: изоляция в спецсанатории, постепенное превращение в «зеленушку», участие в медицинских экспериментах в роли подопытной крысы.
Но бывший спецназовец не пожелал смириться с неизбежным. Он снова обратился к своему другу с просьбой забрать дочь в Лес, где, по слухам, у неё был шанс избавиться от недуга.
Дело было непростым, не под силу обычному фермеру или челноку. Только вот друг Виктора известный под прозвищем «Бич», имел устойчивую репутацию человека, способного справиться с проблемой любой сложности – и репутацию эту подтвердил. Он переправил девушку за МКАД, где та присоединилась к «аватаркам», бывшим жертвам Зелёной Проказы, а потом и к «почтовым белкам». Эти девчонки (все, как одна, рыжеволосые, зеленокожие и отличающиеся чрезвычайной ловкостью) сделали своим главным занятием доставку депеш, писем и мелких посылок по всему Лесу. Ярослава (в Лесу её имя сократили до «Яськи») вскоре завела дружбу с Бичом – Яське было невдомёк, что егерь опекал её, в память давней дружбы с Виктором. Сам же отец никак не мог помочь дочери – вырывать девчонку из рук санитаров и сопровождавших их полицейских пришлось буквально с боем, так что следующие несколько лет он провёл на нарах. И если бы не ещё одна история, способная стать сюжетом уже не мелодрамы, а полноценного фильма ужасов – не видать ему дочку, как своих ушей.
Но жизнь распорядилась иначе. Теперь Виктор – Хранитель Норы и, по совместительству, супруг самого уважаемого среди егерей медика. Который – вернее, которая – как раз и обнимала его сейчас за плечи, сопровождая этот жест игривым покусыванием за мочку уха.
Ева бесцеремонно завладела футляром.
– Не видишь, что ли – залито воском! – сообщила она, осмотрев посылку. – А вот и печатка оттиснута…
Действительно, зазор между крышкой и цилиндром был заполнен желтоватой массой, на которой отпечатался силуэт дерева. Дуб, подумал Виктор. Или ясень. Или, может быть, граб. Лешаки обожают деревья с широкими, развесистыми кронами – и огромные, по плечо иной сталинской высотке. Такие зелёные великаны можно сыскать только в Лосинке, на Воробьёвых горах, да в обожаемом лешаками Терлецком Урочище.
Тем временем женщина, орудуя ножом, освободила крышку от воска и вернула футляр Смотрителю.
– Давай уже, откупоривай!
Видно было, что ей не терпится взглянуть на содержимое.
– Сама, что ли, не могла?
– Мне не положено. – вздохнула Ева. – Лешаки шлют такие послания в самых важных случаях, и ломать их печать может только адресат.
– Так мы же одни. Кто увидит?
– В Лесу никто не бывает один. – отрезала женщина. – Разве что, под землёй – в метро ещё где-нибудь. Да и то… в общем, хватит спорить, открывай уже!
В футляре оказался берестяной свиток. Виктор извлёк его, неловко орудуя пальцами единственной руки, и протянул жене.
– Разрешаешь?
– Зачем спрашиваешь? Будто мне есть, что от тебя скрывать!
– Порядок есть порядок. – Ева развернула бересту. – Говорю же: лешаки крайне чувствительны к таким вещам. Свиток предназначен тебе, но если ты не против, я тоже могу прочесть. Они не обидятся.
Виктору покачал головой: усвоить тонкости здешнего этикета было непросто. Во всяком случае, за те два с небольшим месяца, что он успел прожить к Лесу.
– О, как! – на лице женщины проступило изумление. – Ты только прочти, что они тебе предлагают! Вот уж не ожидала…
Виктор принял свиток. Тёмные буквы, похожие на руны, отчётливо выделялись на светлом фоне. Они были не написаны чернилами или тушью – скорее выдавлены в мягкой бересте.
– Пальцем процарапано. Помнишь, какие пальцы у лешаков? Те же сучки. – прокомментировала Ева. – На древних грамотах, которые из новгородских раскопок, точно так же писали.
– Пальцами?
– Сучками. Или особыми палочками – «стилос» называется, это по-гречески, кажется. Да ты не умничай, а читай, тебе понравится. А я пока побегу шмотки укладывать.
– Это кто ещё умничает… – попытался протестовать Виктор, но Ева его уже не слушала – упорхнула в дверь, не забыв бросить через плечо: «пять минут на рефлексию, и собирайся!»
Через полтора часа он запер единственную дверь и вышел на поляну перед Норой. Пёс уныло плёлся по пятам. Морда его выражала крайнюю степень собачьего недовольства – как ни вилял бедолага хвостом, как ни ластился к хозяину, тот безжалостно оставил его одного, сторожить дом.
– Побудешь вместо меня на хозяйстве, зверюга. – сказал на прощание Виктор. – Кого пускать, кого гнать прочь – сам, небось знаешь. А полезешь в клетку к курам – не посмотрю, что друг, отвожу по загривку. Живности вокруг предостаточно, не отощаешь…
Пёс состроил умильную морду: «Что ты, хозяин, и в мыслях не было!» Куры же в просторном сетчатом вольере заквохтали, засуетились, почуяв неладное.
– Да они у тебя сами с голода передохнут. – заявила Ева. Она нетерпеливо барабанила пальцами по прикладу висящего на шее карабина. – Раньше, чем через неделю, не вернёмся, кто кормить будет?
– Я им пшена сыпанул, с горкой. – подумав, сообщил Виктор. – Поилка тоже полная, на неделю должно хватить.
– Ты мой хозяйственный… – она потрепала его по щеке. Ладно, будем на Белорусском – пошлём белку кому-нибудь из наших. Куры-курами, а оставлять Нору надолго без присмотра не стоит.
– Думаешь, можем задержаться? – встревожился Виктор.
– Вряд ли. Если, конечно, не будем время терять на всяких там несушек.
– Вот попросишь омлета – я тебе это припомню. – посулил Хранитель Норы. Он закинул на плечо рюкзак, пристроил поудобнее чехол с обрезом и вслед за женой направился в просвет между заросшими ползучими лианами и проволочным вьюном пятиэтажками. Вдогонку им обиженно, по щенячьи, тявкал Пёс.
* * *
Московский Лес,
Белорусский вокзал.
Из всех путей в порядке содержался один – крайний, сквозной, примыкающий к жилым кварталам – по нему дрезины могли проскакивать под путепровод Ленинградского шоссе и следовать дальше, на север. Хоть Лес и пощадил прочие вокзальные сооружения, не стал взламывать их прорывающимися сквозь асфальт и бетон деревьями, но всё остальное – козырьки над перронами, фонарные столбы, обглоданные непогодой киоски – старательно затянул сплошным пологом проволочного вьюна, ползучих лиан и прочей ползучей флоры. В относительной сохранности осталось и само здание вокзала.
– Ну что, послала белку? – спросил Виктор. Они устроились на рюкзаках, в стороне от рядов металлических каркасов, бывших когда-то креслами зала отдыха – спинки и сиденьях сиденья давным-давно сожрала пластиковая плесень, оставив на их месте рыхлые космы.
– А как же! – ответила, потягиваясь, Ева. – Яська, правда, не отозвалась, но её и я и не ждала.
– А кому?
Вернеру, Уочиви-танцовщице… – принялась перечислять супруга. – Дяде Вове тоже, хотя он, скорее всего, сейчас с Бичом, в Соколиной Обители.
– Конференция? – понимающе кивнул Виктор.
– Она самая. Честно говоря, не верила я в эту затею. Собрать за одним столом друидов, путейцев и аватарок – это из области фантастики.
– А вот Бич собрал. Хотя, строго говоря, это даже не его заслуга, а золотолесцев. Это они убедили друидов не просто принять участие, а предоставить одну из своих обителей для переговоров.
– Зато именно он поднял тему, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. – возразила женщина. – Если бы не бумаги, которые Бич раздобыл в МИД-овской высотке – хрен бы кто согласился на это толковище! Убедить лесовиков в том, что пришла пора что-то решать совместно, а не поодиночке – задачка, знаешь ли, нетривиальная…
Она знала, что говорит. Прежде чем рассылать депеши с предложением собрать обще-лесную конференцию, Бич обсудил эту идею с прочими егерями. Обсуждение, как нетрудно догадаться, состоялось в Норе, и Ева приняла в нём живейшее участие. Виктор тоже присутствовал, но, по большей части, отмалчивался – знания политических реалий Леса не позволяли новому Хранителю принять сколько-нибудь деятельное участие в беседе.
– Куда нам сейчас? – сменил тему Виктор. – К Савёловскому, и далее по МЦК, через Сокольники?