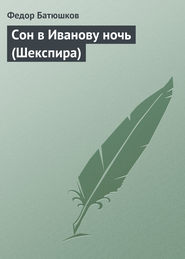 Полная версия
Полная версияСон в Иванову ночь (Шекспира)
Признавъ влюбленность – «игрой воображенія» («Безумный и влюбленный и поэтъ – составлены всѣ изъ воображенія»), прихотью случая, дѣйствіемъ силы, независимой отъ нашей воли, Шекспиръ въ каррикатурномъ видѣ представилъ это состояніе лишь на примѣрѣ Титаніи, влюбляющейся въ человѣка съ ослиной головой, подъ вліяніемъ волшебнаго цвѣтка, которымъ Оберонъ натеръ ей глаза. Принято считать этотъ тезисъ Шекспира и вообще всю пьесу «Сонъ въ Иванову ночь» проникнутыми очень пессимистическимъ, чтобы не сказать отрицательнымъ взглядомъ на любовь. Однако, тезисъ самъ по себѣ былъ, конечно, весьма не новымъ. Объ «ослѣпленіи любовью» трактовалъ уже Лукрецій (De rerum natura, кн. IV, ст. 1142 слл.), указывая, до какой степени обманываются тѣ, которые поддаются данному душевному настроенію. Позже Мольеръ перефразировалъ указанное мѣсто у Лукреція, вложивъ въ уста Эліанты, въ «Мизантропѣ» (д. II сц. 4), слѣдующій монологъ[10]:
Кто любитъ, склоненъ тотъ хвалить свое избраньеИ въ немъ порочнаго не видитъ ничего;Въ предметѣ страсти все прекрасно для него —Пороки кажутся въ немъ благомъ очевиднымъ,Ихъ именемъ спѣшитъ назвать онъ безобиднымъ:Онъ блѣдную какъ смерть – жасминомъ назоветъ,И страшно черная – смугляночкой слыветъ,Свободна и гибка – коль очень худощава,А слишкомъ толстая – осанкой величава;Неряха грязная, невзрачная собой —Тотчасъ же прослыветъ небрежной красотой,Коль ростомъ велика – богини воплощенье,А карлица – чудесъ небесныхъ сокращенье.Коль дура – то добра, лукавая – умна,Спесивая – носить корону рождена,Пріятный нравъ найдутъ у слишкомъ говорливой,Нѣмую прозовутъ невинностью стыдливой:Такъ всякій, если кѣмъ до страсти увлеченъ,Въ пороки самые окажется влюбленъ.Не та же ли основная мысль проводится и Шекспиромъ? Но онъ идетъ дальше и, признавая ошибочность сужденій влюбленныхъ о предметѣ своей страсти, подчеркиваетъ непроизвольность самого увлеченія, которое онъ ставитъ въ зависимость отъ чудодѣйственной силы. Въ этомъ отношеніи Шекспиръ стоитъ на почвѣ вполнѣ національной, германо-романской концепціи: не въ той же ли Англіи родина знаменитаго въ средневѣковой литературѣ сюжета о Тристанѣ и Изольдѣ, хотя и ставшаго намъ впервые извѣстнымъ во французской обработкѣ? И чѣмъ по существу разнится роковой напитокъ, отвѣдавъ котораго Тристанъ и Изольда, въ силу волшебства, должны были полюбить другъ друга, отъ алаго цвѣтка, который приноситъ пукъ Робинъ, по приказанію Оберона? Развѣ не простая случайность, съ точки зрѣнія такого представленія о роковомъ, отъ нашей воли независящемъ источникѣ любовнаго аффекта, – что Тристанъ и Изольда были оба молоды, прекрасны собой, надѣлены всевозможными положительными качествами, и только по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ не должны были смотрѣть другъ на друга какъ на жениха и невѣсту? Получилась поэма незаконной, даже преступной любви, но красивая, привлекательная, потому что прекрасны были оба очарованные. Возможна и оборотная сторона медали, которую и показалъ Шекспиръ: Титанія, по пробужденіи отъ сна, обреченная полюбить перваго, кого увидитъ, встрѣтила не Тристана, а Основу, вдобавокъ съ ослиной головой. Но все таки это судьба, вліяніе роковой силы. Дѣлать ли отсюда выводъ, что Шекспиръ дѣйствительно относился отрицательно къ любовному аффекту, что онъ представилъ каррикатуру для того лишь, чтобы рельефнѣе оттѣнить безрассудство состоянія влюбленности? Несомнѣнно нѣсколько пессимистическая нотка проглядываетъ въ этомъ произведеніи, однако, не безъ другой, положительной точки зрѣнія. И чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить перипетіи четырехъ любовниковъ. Лизандръ любитъ Гермію и любимъ ею, какъ раньше Деметрій любилъ Елену, расположивъ ее къ себѣ. Но внезапная прихоть отклонила Деметрія отъ предмета его первоначальной страсти и заставила выступить соперникомъ Лизандра въ исканіи руки Герміи. Елена покинута и несчастна, но она не теряетъ надежды мольбой и просьбами вернуть къ себѣ сердце Деметрія. Тщетная надежда и ошибочный пріемъ снискать расположеніе любимаго человѣка. Своими приставаніями Елена только надоѣдаетъ Деметрію и еще больше отталкиваетъ отъ себя. Какъ же ей въ концѣ концовъ удалось опять привлечь любовника? Совсѣмъ инымъ и неожиданнымъ способомъ, а именно – самопожертвованіемъ. Да, на нашъ взглядъ, вся сказанная обстановка дѣйствія только красивый вымыселъ, который нисколько не заслоняетъ рѣшеніе проблемы объ измѣнчивости и прихотливости чувствъ на чисто психологической почвѣ. Припомнимъ конецъ перваго дѣйствія: Елена пришла къ заключенію, что не даромъ «крылатый Купидонъ представленъ намъ слѣпымъ и безразсуднымъ»; любовь – прихоть и въ такомъ смыслѣ подвержена всевозможнымъ случайностямъ; такъ Деметрій, измѣнивъ ей, влюбился въ Гермію; такъ впослѣдствіи Титанія, по волѣ Оберона, влюбилась в Основу. Однако, есть въ любви нѣчто, способное возвысить ее надъ прихотью чувствъ и придать ей устойчивость. Пусть Деметрій увлекается красотой Герміи (doting on Hermias eyes), – Елена любитъ въ немъ его достоинства (admiring of his qualities), и это придаетъ болѣе серьезный характеръ ея чувствамъ къ Деметрію. Теперь она рѣшается пожертвовать собой: услыхавъ, что Гермія и Лизандръ уговариваются на слѣдующую ночь бѣжать и встрѣтиться въ лѣсу, за Аѳинами, Елена спѣшитъ сообщить объ ихъ предполагаемомъ побѣгѣ Деметрію; пусть его «спасибо» за эту услугу будетъ ей единственной наградой, и, хотя бы пришлось потомъ ей съ нимъ разстаться на вѣки, оно будетъ ей дорогимъ, прощальнымъ подаркомъ (if I have thankes it is a deere expence). И этотъ подвигъ Елены долженъ быть со временемъ оцѣненъ ея вѣроломнымъ любовникомъ; насколько она отваживала его отъ себя своими приставаніями, настолько побѣдила вновь – безкорыстіемъ чувствъ. Что нужды, что внѣшняя развязка пьесы обусловлена волшебствомъ, за нимъ чувствуется реальная психологическая почва: если на Лизандра нашла внезапная прихоть къ Еленѣ, подъ вліяніемъ цвѣтка, которымъ по ошибкѣ Пукъ натеръ ему глаза, то вѣдь такая же прихоть напала раньше на Деметрія безъ всякаго участія волшебной силы. Несущественность такихъ увлеченій Шекспиръ пояснилъ на примерѣ Лизандра, какъ бы въ назиданіе Деметрію. И вотъ протрезвленный Деметрій возвращается къ своей Еленѣ, которая вновь стала ему мила, когда перестала домогаться его любви; мастерской, по истинѣ геніальный анализъ душевныхъ движеній Шекспира служитъ такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, не къ посрамленію «ребенка Амора» (the boy Love), который, какъ обыкновенно дѣти, склоненъ къ капризамъ, а напротивъ, къ возвеличенію чувства, на нравственной основѣ. И въ общемъ выводѣ, допуская, что пьеса Шекспира была свадебной «маской», мы отнюдь не раздѣляемъ со мнѣній и недоумѣній Ульрици, удивлявшагося выбору сюжета для даннаго случая: онъ какъ нельзя болѣе умѣстенъ, и истинный смыслъ пьесы раскрывается намъ, если вникнуть въ ея суть, а не во внѣшнюю фабулу, какъ бы ни выдѣлялся кричащей нотой горькаго скептицизма эпизодъ съ Титаніей.
Какъ по отношенію влюбленности, такъ и къ поэзіи – воображеніе обоюдоострое оружіе, но оно не подлежитъ безусловному осужденію. Сцена мастеровыхъ, разыгрывающихъ интермедію о Пирамѣ и Ѳисби, представляетъ обратный случай по сравненію съ исторіей Титаніи и Основы, и поэтому стоитъ въ интимной, органической связи съ сюжетомъ драмы. Въ самомъ дѣлѣ, если Титанія «воображеніемъ» облагораживала несчастный предметъ своей страсти, то, какъ личность, она представляется живымъ контрастомъ Основѣ: это воплощенное изящество, красота и грація, которыя стремятся поднять до себя воплощеніе грубости и глупости. Обратно этому мы видимъ изящную и поэтическую легенду о Пирамѣ и Ѳисби, приниженную и искаженную въ уровень съ ограниченнымъ кругозоромъ грубыхъ и необразованныхъ людей, которые безсознательно впадаютъ въ пародію, оставаясь вполнѣ серьезными въ своихъ намѣреніяхъ. Воображеніе покрываетъ ихъ невольный самообманъ и поддерживаетъ въ нихъ иллюзіи относительно собственныхъ талантовъ, какъ у Титаніи относительно мнимыхъ достоинствъ Основы. Не кроется ли въ этой пародіи на драматическое представленіе какого нибудь личнаго предубежденія автора противъ «грубой черни», которую онъ выводилъ на смѣхъ, какъ впослѣдствіи заклеймилъ ее презрѣніемъ въ Каллибанѣ? Наврядъ, хотя, конечно, въ общемъ Шекспиръ отнюдь не можетъ быть подверженъ упреку въ излишнемъ пристрастіи къ толпѣ. Но въ данномъ случаѣ нельзя не усмотрѣть нѣкоторой аналогіи отзыва Тезея, по поводу игры исполнителей интермедіи, съ замечаніемъ Гамлета по поводу искренняго одушевленія актера, прочитавшаго монологъ. Знаменитое выраженіе: – «что ему Гекуба, что онъ Гекубѣ?» устанавливаетъ силу воображенія, благодаря которому актеръ могъ прочувствовать свой монологъ въ такой степени, что голосъ его дрожалъ и слезы показались на глазахъ. А главное, что, усвоивъ данную вымышленную ситуацію, актеръ такъ близко принялъ ее къ сердцу, что говорилъ искренне, точно отъ своего лица. Бѣдные мастеровые-любители очень далеки отъ такого искусства перваго актера въ «Гамлетѣ», которое произвело впечатлѣніе даже на Полонія. Однако, Тезей предупреждаетъ насмѣшки по поводу ихъ исполненія замечаніемъ Ипполитѣ:
Коль бѣдное стараніе безсильно,То чистое усердье выкупаетъНевольный неуспѣхъ.Тезей напоминаетъ, что иное молчаніе, происходящее отъ искренняго смущенія, отъ «пугливаго усердія» доставляетъ больше удовлетворенія, чѣмъ «дерзкое», т. е. напускное, краснорѣчіе находчиваго смѣльчака:
Признаюся,Что, по моимъ понятіямъ, любовьПри языкѣ простомъ чистосердечьяВсегда сильнѣе сердцу говоритъ.Итакъ, неумѣлое искусство, какъ несчастная любовь, могутъ быть скрашены чистосердечіемъ. Конечно, отъ этого чистосердечья исполненіе пьесы мастеровыми не становится лучшимъ, какъ чистосердечье Титаніи не можетъ придать Основѣ достоинствъ, которыхъ онъ лишенъ. Но искренность усердья неумѣлыхъ служителей Мельпомены все же отклонила глумленіе надъ ними и вызвала у Тезея слова снисхожденья. И Оберонъ не глумится надъ Титаніей[11]: онъ поспѣшилъ снять съ нея чары, какъ только получилъ искомое, т. е. какъ только заставилъ Титанію отрѣшиться отъ ея прежняго пристрастія къ индійскому мальчику, служившему поводомъ ихъ ссоры. Одно только шутливое замѣчаніе Оберона послѣ пробужденія Титаніи: «Вотъ здѣсь лежитъ твой милый» – служитъ напоминаніемъ о томъ, что произошло. Но, какъ уже было замѣчено, не столько въ фантастическихъ дѣйствующихъ лицахъ «Сна», сколько у живыхъ людей пьесы Шекспира психологія этого великаго знатока человѣческаго сердца глубже и тоньше имъ соблюдена. Для исторіи его творчества, было бы не безъинтересно принять во вниманіе аналогію первой сцены – Эгея и Герміи передъ судомъ Тезея – съ появленіемъ Брабанціо и Отелло передъ совѣтомъ дожа въ «Отелло». Но дальнѣйшія соображенія по исторіи творчества Шекспира и по отношенію настоящей пьесы къ другимъ его произведеніямъ (особенно къ «Бурѣ», которая во многомъ является какъ бы естественнымъ приростомъ къ «Сну въ Иванову ночь») отвлекли бы насъ слишкомъ въ сторону. Если Шекспира не разъ сравнивали по глубинѣ и ширинѣ его творческаго генія съ моремъ, то небольшой заливъ, образованный этимъ моремъ, обладаетъ многими свойствами стихіи, съ которой онъ остается въ органической связи. И въ заливъ вливаются тѣ же волны, хотя не столь грозныя и величавыя, какъ въ безбрежномъ просторѣ океана. Онѣ мельче дробятся, кажутся прозрачнѣе, выкатываясь на песчаный берегъ, но льются изъ той же глубины; и въ настоящемъ случаѣ Шекспиръ далъ намъ почувствовать эту глубину, подъ красивыми и фантастическими завитками прибрежной пѣны, глубину – въ томъ значеніи, которое онъ сумѣлъ придать безкорыстію въ любви и чистосердечной искренности чувства.
Примечания
1
Horace Howard Furness, A New variorum edition of Shakespeare. Въ этомъ изданіи собранъ богатый матерьялъ комментаріевъ къ Шекспиру. Въ послѣдующемъ изложеніи тѣ ссылки, которыя не оговорены особо, съ указаніемъ источника, относятся къ десятому тому изданія Фурнесса.
2
William Shekespeare, Sein Leben und seine Werke von Sidney Lee, – durchgesehen und eingeleitet von professor Dr. Rich. Wülker, Leipzig. 1901. Объ отношеніи этого editio princeps къ двумъ послѣдующімъ (второе безъ означ. года, третье 1623 г.) см. статьи Крауза: Die drei ältesten Drücke des Sommernachtstraum, въ Jahrb. der deutsch. Shakesp. Geselschaft, XXI Ihg, 1886 г.
3
Другое высказанное предположеніе, по которому въ аломъ цвѣткѣ усматривался намекъ на Марію Стюартъ, нынѣ оставлено по совершенной неубѣдительности.
4
Статья Гальпина выше указана.
5
Объ этомъ романѣ см. статью г. Гастона Париса, въ "Poemes et legendes du Moyen-âge, изд. Societê d'edition artistique, 1900. Paris.
6
Другая, раньше предложенная этимологія имени Оберона отъ alba (aube: заря), нынѣ оставлена, какъ маловѣроятная, и напрасно выдается Брандесомъ, какъ вполнѣ установленная.
7
По англійски пукъ (puck) – домовой, кобольдъ.
8
Alfred Mezi?res, Shakespeare, гл. I.
9
Недавно С. А. Венгеровъ (въ V т. изданія соч. Бѣлинскаго) установилъ, что этотъ терминъ впервые пущенъ былъ у насъ въ оборотъ именно Бѣлинскимъ, при чемъ комментаторъ вполнѣ правильно оспариваетъ научное значеніе чисто-полемическаго эпитета, созданнаго Бѣлинскимъ.
10
Цитируемъ по переводу Л. Поливанова.
11
Превращеніе Основы – продѣлка Пука.
Комментарии
1
Тексты собраны J. O. Halliweli'емъ въ его изданіи: «Illustration of the fairy mythology of Shakespeare». Напечатано англійск. шекспировскимъ обществомъ, въ 1845–1853 г. г. съ приложеніемъ статьи Гальпина (Rev. N. J. Halpin) – «Oberon's vision», о которой рѣчь ниже.
Въ числѣ предложенныхъ намековъ въ пьесѣ на современныя Шекспиру обстоятельства общественной жизни указанъ стихъ:
"Скорбь трижды трехъ прекрасныхъ музъ о смерти, Постигнувшей науку въ нищетѣ".Это заглавіе одного изъ произведеній, предложенныхъ Тезею на выборъ Филостратомъ, въ спискѣ приготовленныхъ развлеченій ко дню свадьбы. Тезей замѣчаетъ:
"Тутъ тонкая и старая сатира: На брачномъ торжествѣ ей мѣста нѣтъ!"Приведенное заглавіе принимаютъ какъ намекъ на стихотвореніе Спенсера: «Слезы музъ», написанное около 1591 года. По другому объясненію (Knight'a), оно скорѣе относится къ смерти Роберта Грина, поэта, скончавшагося въ 1592 г. въ большой бѣдности, почти въ нищетѣ. Наконецъ, Флей (Fleay) замѣтилъ, что данное мѣсто въ равной степени можетъ быть примѣнено и къ Спенсеру и къ Грину, или къ обоимъ вмѣстѣ. (Сводъ мнѣній см. у Фернесса, О. с.).



