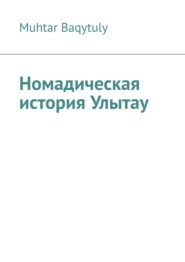
Полная версия:
Кочевническая история Улытау
Вся сия страна вообще безводна. Реки, вытекающие из возвышенных пунктов, составляющих как бы особые водохранилища и разделенные между собою большим расстоянием, летом воды имеют здесь весьма мало и превращаются в озера, а многие из них совсем иссыхают. Изредка рассеянные по сему пространству стоячие водяные ямы и заросшие камышом и ситником болотистые равнины, так как и все воды, более или менее вмещают в себе вкус солено-горький. Колодцы отыскиваются всегда в местах низменных, и то около одних солонцов. Жар простирается чрез все лето от 25 до 30 градусов в тени по Реомюрову термометру. Напротив, зима, от свойства сухой глины, изобилующей солями и селитреными частицами, свирепствует столько жестоко, что киргизцы никак не могут оставаться здесь кочевать, не подвергая себя опасности лишиться своего скота. В месяце мае и в сентябре дуют по сей полосе периодические ветры и наносят весною бури, а осенью – морозы и снег. В прочие времена года погода постоянна, дождей не бывает, воздух вообще сух, тонок и даже проницателен; о прочих переменах, замеченных в сей стране, и о предосторожностях, нужных в проезде чрез оные для соблюдения здоровья, мы говорили в нашем журнале.» (Гавердовский Я. П. 1804, с. 110).
Мы не будем участвовать в дискуссии между исследователями по проблеме эволюционного изменения климатических условий в казахской степи, а лишь признаем закономерность цикличности колебаний увеличения и уменьшения количества осадков, потепления климата и его похолодания, влажности и засушливости, высокого травостоя и исчезновения многих видов трав. Когда и как происходили эти колебания довольно широко исследовано в научной среде, поэтому мы ограничились в нашей работе археологическими и историографическими данными.
Однако гипотеза Л. Н. Гумилева о периодичности смещения атлантических циклонов с севера на юг и обратно вполне может служить объяснением периодической цикличности смены одних государственных и этнических образований другими. Речь идет о вековой засухе, которая наступала примерно каждые шесть веков и приводила к исчезновению кочевых государств на территории современного Казахстана.
Л. Н. Гумилев это объясняет перемещением осадков в бассейн реки Волга и обратно – в бассейны рек Сырдарьи, Амударьи и Семиречья. В первом случае в степи происходит засуха и наполнение Каспия, а во втором – плодородие и повышение уровня Арала и Балхаша. Во время засухи, в результате долгих и изнурительных войн, в степи исчезала полноценная жизнь, а во время возвращения плодородия создавались мощные государственные объединения, такие, как сакский, тюркский, огузский и мунгульский империи.
Колебания погодных условий в степи имели как вековую и ежегодную, так и сезонную цикличность, влиявшей на образ жизни номадов. Приспособляемость насельников к этим колебаниям происходил на протяжении многих веков, начиная со времён неолита. Духовная и материальная культура кочевников – это результат приспособления к элементам резко континентального климата: колебаниям температуры воздуха, направления ветра, сезонов метелей и половодья, а также влияния выпадения осадков и произрастания травостоя.
Если оседлые цивилизации больше зависели от катаклизмов, возникавших вследствие межгосударственных войн, то кочевничество находилось в постоянной зависимости от природно-климатических изменений как сезонного, так и многовекового характера. Поэтому подвижность номадов всегда антонировало неподвижности оседлых этносов. Изучение такого состояния кочевников привело к оформлению Л. Н. Гумилёвым новой научной дисциплины как «Историческая география».
Высокая солнечная радиация, сильный перегрев почвы и скудность осадков в летнее время, а также резко-континентальность климата исключали возможность развития на широких просторах Улытау нескотоводческих видов хозяйства, за исключением небольших очагов земледелия вокруг ставок-орд властной верхушки социума и поселений металлургов на берегах рек Улькен Жезды и Жыланды. На небольших земледельческих участках выращивали твердые сорта зерна пшеницы, ржи и ячменя, а металлурги добывали медь, железо, марганец, олово, свинец и занимались их переработкой и плавкой, расщепляли из меди золото и серебро.
Скотоводческие хозяйства располагались на всем протяжении степных просторов Улытауского края, достигая бассейна реки Есиль и южных лесов Западной Сибири, преимущественно мигрируя с апреля по конец ноября. Зимний выпас скота был возможен южнее отрогов гор Кишитау. Севернее тех мест толщина снега превышала 30 см и выпас скота там был невозможен, так как овцы могут самостоятельно тебеневать лишь на глубине снега в 10—20 см, а лошади – 30—40 см. Хозяйства максимально использовали ресурсы скота в производстве и переработке мяса и молочных изделий, шерсти, а также использования в качестве тяглового транспорта. «Кочевничество – одно из наиболее рациональных способов природопользования и утилизации скудных ресурсов засушливых регионов, занимающих почти четверть всей земной поверхности». (Масанов Н., 1995).
Основная часть Улытауской степи в зимнее время пустела, за исключением поселений металлургов и дворцов властной элиты, которые круглый год находились на стационарном положении и занимались придомным скотоводством вблизи ставок-орд. Зимой здесь оставляли небольшое количество скота на пропитание, а остальные стада отгоняли на южные просторы Улытау – в пески Каракума, Борсыккума и Бетпак-Далы. Содержание скота в загонах поселений в зимнее время было возможным лишь с обеспечением работ по заготовке сена и кормов.
Трансформация материальной культуры вынуждала политические центры возводить дворцы и поселения для концентрации в них нетранспортабельных для кочевания предметов, как металл, керамика, стекло. Все эти предметы были обиходом этих поселений в то время, как «специалисты» кочёвок по пастбищам избавлялись от всего этого, постепенно заменяя предметы первой необходимости легкими материалами из кожи, шерсти, дерева, удобных для навьючивания на лошадь или верблюда и поддающихся быстрой сборке и разборке, такие как юрта, мебель и кожаная посуда.
По сравнению с Монголией, где кочевание происходит круглый год из-за возвышенности монгольских степей в 1500 м над уровнем моря, плотное и равномерное залегание снега не позволяло скотоводам Улытау пасти скот круглогодично. Поэтому, хозяйства локализовались в стойбищах или в южных просторах, где концентрировались постоянные зимовки.
Что касается маршрутов сезонного кочевания, то следует отметить закономерную аналогичность миграции диких животных, таких, как сайгаки, джейраны, куланы, дикие лошади и т.д., с передвижением скотоводческих хозяйств по сезонным маршрутам с севера на юг и обратно. Доказательством данному факту может служить меридиональное направления основных кочевий. (Масанов Н. 1995). Поэтому, можно однозначно отметить важную роль охоты и ее влияния на переход степных пастушеских хозяйств времен андроновской культуры к кочевому скотоводству. Кочевые маршруты Улытау формировались по путям миграции диких животных, что в последующем приводило к их физическому вытеснению, освобождая пастбищные угодья для домашнего скота. Дикие животные могли спастись только в тех местах, где отсутствовали кочевые хозяйства.
Тем не менее, отношение к диким животным в средневековье кардинально отличалось от современных реалий. В Улытау уже нет того изобилия дичи, которое описывает Хафиз-и Таныш Бухари в «Книге шахской славы», в главе «Прибытие воинственного хакана на берег реки Сарык-Су»: «Повелитель [«Абдаллах-хан], величественный, как небо, поднялся на вершину той горы и окинул взором бескрайний простор, длину и ширину которого знает [только] господь. [Хан] стоял [здесь] в тот день до полуденного намаза и направил свои помыслы на то, чтобы воины собрали много камней и построили в этой высокой величественной местности высокую мечеть, чтобы на страницах времени запечатлелась память о высоких деяниях и славных делах того могущественного падишаха, подобно тому, как государь, чье место в раю, полюс мира и веры Эмир Тимур-курэкан, милость и благословение над ним, во время похода против Тохтамыша-хана дошел до Улуг-Тага, в течение одного дня на вершине его поднимал знамя стоянки и приказал славному войску собрать много камней с окраин и воздвигнуть сооружение, напоминающее минарет. Каменотесы начертали [на нем] дату пребывания его величества в этой местности.
В это время в благословенном сердце могущественного государя возникло желание насладиться охотой. Хакан, властный, как небо, охраняемый милостью и помощью творца, отправился на охоту…
Короче говоря, в этих степях было убито [букв, «собрано»] столько дичи, что мусульманское войско при скудности пищи отобрало только жирную, оставив нежирную. Среди разных видов газелей [воины] обнаружили [здесь] таких газелей, которые ростом больше буйвола. Монголы (могул) называют их кандагай, а жители Дашта именуют булан [т. е. лось]. Победоносное войско получило большое удовольствие от мяса дичи.»
Как видно из текста, средневековые охотники тоже не отличались рациональностью, но наличие таких диких животных, как лось, говорит о кардинальном изменении в их поголовье в современный период. Тем не менее, процесс вытеснения животноводством диких животных из их среды обитания начался с возникновением кочевого скотоводства. По мере увеличения поголовья скота уменьшалась и численность дичи.
Безусловно, кочевничество периодически вытаптывало и эрозировало отдельные участки почвы, нанося незначительный вред травяному покрову земли. Вытесняло с привычных мест обитания диких животных, что приводило к сокращению их поголовья. Уничтожался лесной массив, применяемый в качестве топлива и сырья для изготовления жилища, домашней утвари и предметов обихода.
Согласно приведённым фактам в книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», которая была выпущена в 1868 году под редакцией подполковника Красовского, на территории Атбасарского уезда из числа диких животных водились степной волк, редко, черно-бурая лисица и, часто, лисица с жёлтой шерстью, а также корсак. В южных и средних горах Акмолинской области часто встречались дикая кошка, в камыши Балхаша редко заходил барс. В «Материалах» отмечается, что тигров к тому времени в степи уже не было, но дикие кабаны были повсюду.
Из породы однокопытных офицеры засвидетельствовали куланов в южных просторах степи, оленей – в бассейнах рек Сырдарья и Сарысу, сайгу, мигрирующую по всей степи вслед за перелётными птицами, в зависимости от времени года, чернохвостую козу кара-куйрык, архаров, водившихся в горных местностях. Кроме выше перечисленных диких животных в «Материалах» приводится большой список и других млекопитающих, птиц, рыбы, землеводных и насекомых.
Но тяжелая промышленность и урбанизация ХХ века переплюнули все эти незначительные издержки кочевого хозяйства и уничтожили само кочевничество посредством демографической катастрофы, произошедшей в 1920—1930 годы. Индустриализация вкупе с Коллективизацией произвели насильственный слом всех традиционных устоев кочевого мира, тем самым, не только нарушив привычный ритм функционирования кочевых хозяйств, но и окончательно уничтожив их раз и навсегда. Массовое освоение целинных земель окончательно поставило точку в преимущественной роли животноводства в сельском хозяйстве.
Но вернемся в рассматриваемое нами время – в средневековье. Максимальная утилизация травяного покрова в регионе приводило к различного рода столкновениям интересов тех или иных племен, что повлекло за собой трансформацию этногрупп и их постоянное биологическое смешение, посредством ассимиляции «чужеземцев» в автохтонную среду, смещая существующую власть, изгоняя их приближенных и утверждая новые династии.
О смене одних династий другими писал Абылгазы в «Родословной туркмен»: «Так, когда поднимали государем кого-нибудь из Кайы и уруг Байат и еще пять-шесть малочисленных уругов присоединялись к нему. А также, когда поднимали государем кого-нибудь из салоров, уруг Салор и уруг Имир и еще несколько малочисленных уругов присоединялись к нему. Так, когда поднимали государем кого-нибудь из йазыров, уруг Йазыр и еще несколько малочисленных уругов присоединялись к нему. Отсюда сделайте заключение: государя поднимали из малочисленного уруга, малочисленные уруги присоединялись к нему; иногда их собиралось шесть-семь, а иногда их собиралось три-четыре. А бывало, что все они враждовали друг с другом, совершали набеги друг на друга, захватывали друг друга в плен.»
Исследуя данную тему и подкрепляя ее археологическими данными, мы не можем согласиться с мнением исследователей о том, что кочевничество, как совокупность хозяйствующих субъектов, нужно воспринимать исключительно как деятельность человека с высокой подвижностью, не имеющей никакой территориальной привязанности. Существование изучаемых нами дворцов и ставок-орд в Улытау говорит о четком разграничении территориальных сфер управления, разделенного на определенную систему функционирования скотоводческих хозяйств. Были постоянные зимовки и существовал не менее постоянный маршрут кочевания хозяйств при локализации дворцов на летних пастбищах, а также функционировали постоянные металлургические поселения.
Время окончания существования этих поселений может ограничиваться XVI – XVII веками, что, в общем, подтверждается археологическими раскопками. Для обоснования этой точки зрения приведем три причины, которые повлияли на прекращение жизни политической степной элиты в дворцах Улытау: 1) окончательное прекращение функционирования Великого Шелкового пути после открытия Христофором Колумбом Америки и освоения европейцами морских торговых путей; 2) наступление в степи периода, так называемой, «малой ледниковой эпохи». Это привело к невозможности кочевания в Улытауском крае, из-за продолжительных зим, которые длились до шести месяцев в год;16 3) изменение геополитической ситуации в Центральном Казахстане привело к появлению тенденции поглощения средневекового кочевого феодально-патриархального общества российско-европейским промышленным империализмом.
На протяжении тысячелетий происходило формирование сезонных маршрутов кочевания, которые окончательно устоялись во второй половине І тысячелетия. Баганалинцы стали такими же скотоводами, как адаевцы, табынцы и аназские племена сабаа, руала, амарат17, которые находились в ареале формирования классического типа кочевания, совершая перекочевки до 2000 и более километров в год. Они же стали одними из последних номадов, завершивших кочевничество в Казахстане и встретивших сталинские потрясения по переходу кочевых хозяйств в «точки оседания».
До принятия «Положений» императора Российской империи Александра ІІ, по которым казахская земля была объявлена государственной, то есть царской собственностью, порядок кочевания скотоводческих хозяйств номадов устанавливался на советах-курылтаях правящей верхушки и определялся родовым принципом землевладения. Формальность частной собственности на скот объясняется выработкой взаимовыручки каждого члена рода, что создавала условия невозможности выживания номада в одиночку. Поэтому, в кочевой среде изгнание из рода являлось самым суровым наказанием за то или иное преступление.
Ежегодная сезонная миграция скотоводов региона из зимних пастбищ в летние проходила в трех направлениях: Бетпакдалинский маршрут проходил через систему колодцев, обеспечивавших передвижение всей живой силы. Сарысуйское направление шло по главному водному артерию южных низовьев реки Сарысу, соединявших урбанизированную Сырдарью со степными просторами Западной Сарыарки. Каракумский маршрут проходил по поймам небольших рек, переходящих в Торгайский бассейн и охватывающих все пастбищные угодья западнее Кишитау, Улытау и Арганаты.
Улытауское направление кочевания запечатлено в книге Кыдырали Жалаира «Жамигат-ат тауарих». В повествовании о происхождении огузов, приводится генеалогия пророка Нуха (Ноя), где его сыном и каганом всех тюрков показан Яфес (Абулжа). После всемирного потопа Нух разделил земли между тремя сыновьями и Яфес стал отцом всех тюрков. Сын Яфеса Диб Якуй был сильным правителем, армия которого была хорошо вооружена. Он поклонялся Тенгри и кочевал во владениях своего отца в горах Ортаг и Кертаг. Эти горы были и владениями внука Абулжи Кара хана.
В историографии существует три мнения о расположении выше упомянутых гор Ортаг и Кертаг. Первые исследователи ассоциируют их с горами Улытау и Кишитау, доказывая закономерность кочевого маршрута с низовьев и среднего течения Сырдарьи по предгорьям Кишитау, Улытау и Арганаты. При этом, эту точку зрения подтверждает Абылгазы, который повествует о старшем сыне Диб Якуя Кара хане следующее: «Кара хан летовал в горах Уртаг и Кертаг; их теперь называют Улуг-таг и Кичик-таг. Когда наступала зима, он зимовал в устье реки Сыр, в Кара-кумах и в Бурсуке». При меридиональном маршруте кочевания топонимы Кертаг («гора, указывающая обратный путь кочевания») и Арганаты («дальнее крыло» Улытауских гор) указывают на закономерность данного маршрута кочевания.
Вторая сторона исследователей, таких как А. Маргулан, утверждает, что горы Ортаг и Кертаг необходимо ассоциировать с горами Ортау и Кызылтау. Эту позицию защищает и Жуман Смаилов, который утверждает, что «местность Уртак соответствует современным горам Ортау. Таким образом, мы отождествляем горы Ортак, Кертак по Рашид ад-Дину с горами Ортау, Кызылтау в Центральном Казахстане».
Третья точка зрения отождествляет Ортак и Кертак с Каратау и Алатау. Ее придерживался Гавердовский, который писал: «Афет, которого иные татарские писатели, желая приближить к началу турского племени, называют Абулчжа-ханом, имел, по их мнению, местопребывание свое также в степи Киргизской при горах Кертау, ныне Каратау, и Артау, ныне Алатау, или Актау». (Гавердовский Я. 2007, с. 151).
При этом, трактуя свой рассказ о сыне Тюрка – Могуле, Гавердовский пишет: «Могулы, которых многие зовут монголы, а собственно по древнему произношению мунглы (Мунгл – на древнем турецком языке значит угрюмый, может быть дано сие название по отличающему свойству их основателей, или по свойству самого народа, которое проистекало от пустынной жизни и уединения, имевших великое влияние на народный характер.), имели вначале главное свое кочевание в нынешней степи Киргизской при горах Улутау, Кичиктау и Каратау и по реке Сыр. Прочие же части степи были заняты другими родами, имена которых мало известны». (Гавердовский Я. 2007, с. 152).
На основе изложенных фактов Абылгазы и Гавердовского мы считаем неуместным больше дискутировать по поводу локализации гор Ортак и Кертак. Общая трактовка событий тех лет, закономерное расположение кочевых маршрутов, а также изучение истории Улытау дает нам возможность уверенно утверждать, что речь идет о горах Улытау и Кишитау.
Миграционные маршруты (скотоводческие, охотничьи, караванные) проходили по руслу реки Сарысу и по системе колодцев в песках Каракума и Бетпакдалы. «Переходы зависят от расстояния между водопоями и от сезона. Проходя в среднем верст по 25—30, караван может делать до сорока переходов, с передышкой от времени до времени в один-два дня».18
Южную часть территории Улытауского края составляют преимущественно пустыни и полупустыни. К примеру, для одной овцы в год требуется 5—7 га земли в зоне степей и 12—24 га в зоне пустынь и полупустынь.19 Поэтому цикличность передвижения скотоводческих хозяйств была усовершенствована на протяжении всей трансформации кочевничества в регионе.
Зимние кочевья местных родов находились в песках, которые простирались в южных просторах края. «По северной стороне Аральского моря – Большой и Малый Барсуккум; к востоку оного около озера Аксакалбарбий и по северной стороне реки Сыр до реки Сарасу – Каракум; с южной стороны Сыр и частью около реки Аму – Кызылкум и Баканкум, которые занимают уже северную часть Большой Бухарии; далее к востоку от реки Сарасу распространяются Коуркум, Ич-Кунгуркум и Ареметей; а, наконец, представляются ровные песчаные степи Битпак, простирающиеся до самого озера Балхаш-Нор, прислоняясь вместе с оным к западной покатости кряжа Алтайского и Музар.» (Гавердовский Я. 2007, с. 112).
Особенности этих песков, наряду с Гавердовским, в разные времена описывали академики Гмелин, Паллас, Лепехин, горные офицеры Поспелов, Бурнашев на рубеже XVIII – XIX веков, полковник Герберг в 1742 году. Все пески южных окраин Улытауского региона находятся в низменности, впитывая в себя водные ресурсы всех рек, текущих как с севера, так и с юга. По сравнению с песками, находящимся южнее берегов Сырдарьи и Амударьи, улытауские пески более-менее снабжены растительностью и в зимнее время вполне пригодны для вскармливания скота. Особенно к жизни в песках приспособлены верблюды, которые зимой комфортней чувствуют себя здесь, нежели на севере.
Но не все рода имели доступ к теплым пескам, так как скудная растительность и ограниченные водные ресурсы не позволяли принять всех желающих. Поэтому, многие из родов зимой оставались на берегах Улькен Жезды, Кенгира, рек бассейнов Улы-Жыланшык и Торгая. Лишь в суровую зиму, в случае отсутствия заготовки сена, некоторые аулы экстренно перекочевывали в пески.
Имея достаточную комфортность в зимнее время, в песках высокий уровень дискомфорта наступал летом. Если в первые осенние дни днем температура градуса достигала +30 С0, то ночью она могла опуститься до +4 С0. Причиной этому было покрытие земной поверхности солью и глиной, которые, из-за зеркальности своей структуры, под воздействием солнца, быстро нагреваются и, как радиаторы отопления, отдают жар, а ночью, сразу же после захода солнца быстро остывают и отдают холодом.
При таких погодных условиях жители песков носили теплую одежду, которая защищала их летом от жары, а зимой – от пронизывающего кости холода. Поэтому, основная часть родов с наступлением весны откочевывали в луговые пастбища на берегах рек Есиль и Тобол, тем самым, спасая себя и скот от изнурительной жары, а в кыстаках оставались родственники, производящие подготовительные работы к очередной зиме.
Пески Каракумов состоят из полос желтовато-серого кремнистого мелкого песка, которые в беспорядке разбросаны в разных расстояниях между собой. Постоянные ветра, приносимые сюда атлантическим циклоном, насыпают песчаные груды и бугры, лежащих гривами и создающих лощины, где зимой скапливается снег и весной подпитывает корни кустарников и колючих трав влагой. Наряду с такими довольно плотными и глубокими лощинами, вперемешку встречаются иногда песчаные равнины, а иногда пласты твердо осевших слоев глины.
В отличие от африканских песков или песков пустыни Гоби, улытауские не представляют из себя «песчаных морей», а расположены отдельно друг от друга и окружены возвышенностями из холмистых пространств. Песчаные полосы расположены от запада на восток в длину от 25 до 120 км, а в ширину достигают 5—25 км. Такое строение оформилось под воздействием ветров, приносимых сюда атлантическим циклоном.
Наряду со скудностью растительного покрова, одной из главных причин сезонных миграций кочевников являлась нехватка водных ресурсов. Гавердовский по этому поводу пишет: «…вся сия полоса, как уже было видно из описания гор, пред прочими частями степи Киргизской в горизонте своем возвышена, и хотя горы сии плоски, но в недрах своих повсюду вмещают близкий к поверхности земли пласт твердого камня, который по его плотности не имеет в себе довольно тех каналов (tubas communicatorias), кои производят взаимное сообщение вод и причину ключей, а с другой стороны потому, что находящиеся в степи горы, будучи низки и представляя по большей части только гладкие и плоские хребты, неспособны к осаждению на поверхности своей туч и влажных паров; следовательно, и возможность к повсеместному изобилию источников чрез сие совершенно пресекается, и самая причина появления их только на отличительных высоких скалистых горах сим доказывается.» (Гавердовский Я. 2007, с. 111).
Характерной особенностью водного капитала в регионе является скопление воды высокого надлежащего качества в горных цепях Улытау, занимая территорию от реки Терисаккан до Карсакбайского поднятия,20 а далее вода уходит в глубину земной коры, теряя качество в сторону повышения минерализации.
Подземные воды перемещаются преимущественно с севера на юг и давление воды исходит со стороны Улытауских гор, которые являются естественным сдерживателем осадков, приносимых Атлантическим циклоном. Водные ресурсы передвигаются по вертикальным системам трещин, определенных крутым залеганием складок пород, которые простираются меридионально.
«Такая расчлененность рельефа создает хорошие условия дренажности подземных вод, что в свою очередь приводит к возникновению родников, которые фиксируются в районах низкогорья. Все родники имеют небольшие расходы (0,02—0,2 л/сек). Южнее Карсакбайского поднятия давление воды снижается и увеличивается минерализация, которая в районе реки Блеуты достигает 1,5—2 г/л.»21



