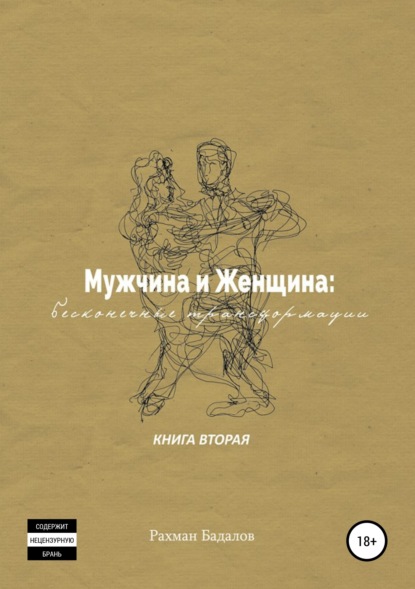 Полная версия
Полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга вторая
Если так для нас важно, что скажут другие – не считаю это вопросом первостепенной важности – то давайте поймём, не следует говорить с миром на волне упрощений и банальностей. Этого, в первую очередь, и следует стыдиться…
Наступить «на горло собственной песне»[831]Иса Гусейнов, несомненно, классик нашей литературы. А классики по определению не могут быть гладкими и благостными.
В одном из своих интервью Иса Гусейнов рассказывает, что поступил в медицинский институт, но проучился недолго, потому что один из преподавателей своей грубостью, своей бесцеремонностью, вызвал у него отвращение. Что стоит за этим признанием?
Нам остаётся только догадываться, строить различные предположения.
Насколько ему, писателю, в любых ситуациях трудно было мириться с теми, кто с ним груб, кто позволяет себе бесцеремонность? Насколько он, писатель, позволял себе, если не возражать, не сопротивляться, то повернуться и уйти?
И если это так, а у нас нет оснований ему не верить, то возникает естественный вопрос, как же ему удалось долгие годы проработать главным редактором киностудии «Азербайджанфильм»[832], а затем главным редактором республиканского Госкомитета по кинематографии[833]?
Тот, кто хоть в малой степени осведомлён о том, что происходило в те годы,
…не только в те годы, но опустим последующие годы…
в этих организациях, поймёт, что жёсткая вертикаль власти (в стране в том числе) предопределяла бесцеремонность, почти «бой без правил», по горизонтали, и постоянные поиски благосклонности, покровительства, по вертикали.
Мог ли Иса Гусейнов позволить себе оставаться в «белых перчатках», если нет, то насколько он позволил себе измениться, отступить от самого себя, чувствительного, ранимого?
По его собственному признанию, во время учёбы в Литературном институте, в Москве, он погрузился в незнакомую для него литературную атмосферу, прилично овладел русским языком, просиживал дни напролёт в библиотеке, читая на русском языке мировую литературную классику.
Но если это так, а у нас нет оснований ему не верить, он не мог не понимать, что подлинный Иса Гусейнов это не столько автор сценариев, по которым было снято несколько фильмов, которые принесли ему известность, социальный статус, материальное благополучие, сколько автор повести «Звук свирели», других повестей.
Он не мог не понимать, что «перевод» на русский язык (об этом «переводе», чуть позже) его повести «Звук свирели», которая была издана в Москве, не столько «перевод», сколько кардинальная мировоззренческая редакция.
И нам остаётся только догадываться, строить различные предположения, в какой степени эта редакция была осуществлена с его ведома, насколько он сам в ней участвовал.
У нас нет оснований ему не верить, что когда все его стали критиковать, обвиняли в антисоветизме, что по тем временам грозило, если не тюрьмой,
…всё-таки уже не 1937 год, «шестидесятые» окончательно не выветрились…
то серьёзными санкциями, он нашёл защиту у «первого лица»[834].
Критика со стороны коллег по литературному цеху была жёсткой и бесцеремонной,
…почему в его повести «Горячее сердце» секретарь райкома изображён таким безжалостным, почему окружающие его «советские люди» изображены такими робкими, осознаёт он себя «советским писателем» или не осознаёт…
а «первое лицо» взяло под свою опеку, «по его совету написал ряд сценариев, по которым были сняты фильмы».
О чём они говорили на этой встрече, понимал ли писатель, что ему придётся наступать на «горло собственной песни», или считал огромной удачей покровительство «всесильного»?
Нам остаётся только догадываться, строить различные предположения, но мы не можем закрывать глаза на факты биографии (судьбы?!) писателя.
…голоса из других планет… мистическая страна OdƏrВ последние годы (десятилетия?) своей жизни до писателя «стали доходить голоса других планет», ему открылась мистическая истина, что не Иисус Христос, а Эйсар идеальный выразитель идей мистической страны «ОДЭР» («OdƏr», от «Od» – огонь, и «Ər» – муж, мужчина), Писатель Иса Гусейнов превратился в писателя Иса Муганна, который отказался от своего раннего творчества, включая «Звук свирели».
В романе «Идеал»[835], написанном в это время, достаётся многим из тех, которые намеревались уничтожить священный манускрипт страны «ОДЭР». Достаётся и Геродоту[836] «греческому агенту», и историкам поздних эпох, которые служат «змеиной науке», достаётся и советскому Политбюро, и Ватикану, и ЦРУ Достаётся и правителям Азербайджана от главного злодея Мир Джафар Багирова[837],
…у писателя «Мир Газаб», от азербайджанского «газаб», ярость, гнев, как символ неправедного гнева…
который был приговорён к смертной казни после разоблачения культа личности И. Сталина[838]), до «аскеров Народного фронта»[839].
Только «всесильный» не попал в этот ряд исторических врагов страны «ОДЭР».
Не наступил ли писатель «на горло собственной песни» и как писатель, и как человек, не был ли сначала обречён на упрощения в своём творчестве, чтобы выжить, чтобы достичь необходимого социального статуса, а позже, когда мир вокруг него стал стремительно меняться, не в качестве ли компенсации за эти упрощения, спрятался в мистический идеальный мир страны «ОДЭР», пытаясь найти оправдание своей писательской миссии? Спрятался не столько сознательно, сколько подсознательно, ощутив себя не столько в реальном мире, сколько в писательском воображении.
Как и во всех других случаях, нам остаётся только догадываться, строить различные предположения.
Русское издание «Звука свирели»: перевод или новая редакция?Теперь о «переводе», о русской редакции повести «Звук свирели».
Дело не в самом переводе, насколько могу судить, перевод вполне квалифицированный, чем-то напоминающий строй русской «деревенской прозы»[840].
Только не очень точным представляется перевод названия, «Звук свирели» превратился в «Звуки свирели». Действительно, в повести много свирелей, и много звуков, но в названии именно «звук», звук свирели, который несётся над миром, который невозможно заглушить, который способен пробиться сквозь все искажающие звуки, которыми так полон наш мир.
Название «Звук свирели» очень точное и очень выразительное, но мне приходит в голову
…не в качестве предложения, чтобы дать толчок воображению…
что в равной степени повесть можно было назвать «Звук и ярость», дублируя название одного из самых главных романов XX века[841]
А в остальном, не собираюсь разбирать достоинства или недостатки перевода, это не входит в мою задачу. Главное, что в русском переводе кардинально изменилась идея повести.
…принципиальное отличие азербайджанского оригинала от русского «перевода»Действие повести происходит в маленьком азербайджанском селе, во время войны, которая в советской историографии, и, соответственно, в советском сознании, получила название Великой Отечественной войны.
Основная идея русской редакции повести «Звуки свирели» в том, что война принесла всем советским народам страшные испытания, что это война всего Отечества, азербайджанское село составная часть этого Отечества, победа в войне станет «одной на всех».
Основная идея повести «Звук свирели» на азербайджанском языке, напротив, в том, что война высветила неправедность того, что происходило в этом селе уже до войны и что продлится после войны. Что азербайджанское село как не было, так и не стало составной частью Отечества. И победа в войне никогда не станет для этого села победой, которая «одна на всех»[842].
«Звук свирели», на мой взгляд, повесть антисоветская, превратилась в «Звуки свирели», повесть советскую. Скорее всего, с ведома самого писателя, который согласился наступить «на горло собственной песни».
…«istrebitelni batalyon» как образ времениТо, что произошло во время войны в маленьком азербайджанском селе, взорвало изнутри само историческое время. Мало того, что оно было неправедным, что оно строилось на насилии, это насилие было извне, со стороны чужой и чуждой силы. Главной движущей силой этого насилия извне становится т. н. истребительный батальон.
В русском варианте о нём говорится вскользь, в оригинале он звучит как рефрен, причём на искажённом русском («istrebitelni batalyon»), точно также и другие подобные слова «отряд» («atryad»), «начальник» (««nəçənnik»), «военная часть» («vayenni çast»), «немец» («nemes»), «разведчик» («razvedçik»), «политотдел» («politatdel»), «служу» («sluşu dururam»), «НКВД»[843] («NKVD»).
Этот карательный «истребительный батальон», который держит всех в подчинении, который вмешивается даже в личную жизнь героев, имеет своих представителей в самом селе, и далее, по вертикали власти, доходя до первого лица в Азербайджане (Мир Джафар Багиров), и до первого лица во всей стране (Иосиф Сталин).
…Один из героев Муса, Меси (о нём чуть позже) будет гнуть свою линию:
«Пришёл конец России. Немцы в Москве! Наберитесь ума! Не стреляйте в нас! Когда придут немцы, мы вас всех приставим к стене».
Председатель сельсовета, с советских позиций, будет говорить противоположное:
«Не одно, пятнадцать фашистских государств, Советскую власть не свергнут! Фашисты убрали свои щупальца из Подмосковья! Советская Армия перешла в наступление! Америка на стороне России! Англия на стороне России! Гитлеру[844] капут!»…
И далее:
«Как представитель Советской власти, отвечающий за всех и за всё, требую, плюньте на эту падаль, на отребья тех, кто позволил себе назвать товарища Сталина чужим, а Гитлера родным. Тогда и я, как положено, смогу сделать «доклад» («daklad») и доложить, что все жители нашего села, от молодого до старого, в едином порыве выражают свою любовь Великому Главнокомандующему».
Кто из них прав? Смешной вопрос. Что им, жителям маленького азербайджанского села, в сущности, до Большой Войны, которая принесла им столько лишений, они как жили, так и будут жить в параллельном мире.
…обречённость строя, который навязан азербайджанскому селу, или как историческое время может перестать быть «историческим»Время войны в этом маленьком азербайджанском селе выявило не только неправедность того, что здесь происходило и происходит, но и обречённость советского строя, который навязан этому селу. И дело не только в том, что Мир Джафар Багиров будет заклеймён и расстрелян, а в том, что произойдёт с этим селом и с этой страной через двадцать, тридцать лет.
Во многом это смогли прозреть наиболее чуткие из «шестидесятников», часто даже не задумываясь о своём прозрении.
Время войны в маленьком азербайджанском селе, возможно, не просто взорвало изнутри историческое время, а опрокинуло, обессмыслило это время. Было бы чрезмерным преувеличением обнаружить в повести Исы Гусейнова, то, что столь мощно и с таким отчаянием прозвучало в польском[845] и венгерском[846] кино тех же «шестидесятых»: фактическое проклятье в адрес собственной истории, в которой ты становишься пешкой в руках других.
Но я вправе конструировать контекст, в который на равных входят повесть Исы Гусейнова «Звук свирели» и судьба майора Советской Армии Або Дудангинского[847], который с позиций советской историографии, несомненно, является «изменником Родины». Останавливаться на этой судьбе не буду, при желании можно найти соответствующие материалы в Интернете, в том числе и мою статью об этом «изменнике Родины».
…повесть оказалась созвучной теме моей книгиМоей интерпретации «Звука свирели» не следует придавать сугубо политический смысл, как не следует в Исе Гусейнове видеть скрытого диссидента.
Повесть «Звук свирели», давно прочитанная, и во многом забытая, проросла во мне в нужное время и в нужном месте не из-за моих политических пристрастий, не из-за нового взгляда на историю (не только!), а по той причине, что оказалась созвучной книгам, фильмам, спектаклям, о которых писал выше.
Вновь женщина, что-то, самая малость, от Анны Карениной, что-то, самая малость, от Гедды Габлер, но здесь женщина никогда не осмелится даже на самую малость того, что позволили себе Анна Каренина и Гедда Габлер, даже подумать об этом не посмеет, азербайджанская гинекея[848] отодвинута далеко вглубь, намного дальше, глубже, чем в греческом мире, который, как известно, женщину особо не жаловал.
Она отодвинута далеко вглубь, поскольку на авансцене не просто мужской мир патриархальных добродетелей, а мужской мир, в котором свирепствует истребительный батальон. В этом мире женщина за наглухо закрытой дверью, не видимая, не слышимая, приговорена к немоте и почти распята.
Война выявила это с беспощадной обнажённостью.
Отдаю себе отчёт, что мои рассуждения о трансформациях мужского и женского, о том, какое место занимает в этих рассуждения «Звук свирели», скорее всего, оказались бы совершенно чуждыми самому писателю.
Не об этом, не «про это» писал он свою книгу. Но художественные тексты живут в культуре своей самостоятельной жизнью, независимо от воли создавшего их демиурга.
Жила-была одна семья…Повесть «Звук свирели» рассказывается от имени мальчика-подростка Нуру, сына учителя. Восприятие подростка, который воспринимает мир с особой обострённостью, не способен смириться с тем, что представляется ему несправедливым, определяет интонацию повести, в которой всё обострено до предела, ничего не сглаживается, ничего не микшируется.
Сюжет повести «Звук свирели», незамысловат. Вполне тянет на мелодраму, если найти соответствующий трогательный финал.
Жила в азербайджанском селе вполне счастливая семья, муж, жена, двое сыновей.
Муж, Мухтар киши,
…от азербайджанского «киши» – мужчина. Употребляется в различных смысловых контекстах, но основной смысл «настоящий мужчина»…
был председателем колхоза. Младший из сыновей Таптык, подросток, лицом и сложением был похож на отца. Старший из сыновей, Джумри, на три года старше, уже юноша, был больше похож на мать. Мальчики боготворили его, к месту и не к месту называли Джумри-гага (братец Джумри), словно он был братом обоих подростков.
Жена была очень красива, самая красивая женщина в селе. Не случайно называли её «сурьмлённая Сёйли» (sürməli Söyli),
…имя приблизительно означает «та, о которой говорят», в русском переводе «Сойли»…
то ли потому что подводила глаза сурьмой, то ли глаза её были так красивы, что, казалось, подведены сурьмой. Мальчишки в селе даже шептались, в словах «сурьмлённая» им слышалось что-то непристойное.
Нуру не соглашался, ведь так называл её муж, Мухтар киши, Мухтар ами, дядя Мухтар, как называл его сам Нуру.
Разве называл бы он так жену, если в этом имени было бы что-то непристойное.
Муж Сёйли был председателем колхоза. Он часто забирал «жену под мышку» и являлся побеседовать с учителем Таиром. Нуру удивлённо замечал, что Мухтар киши не столько беседовал с его отцом, сколько балагурил со своей женой:
«Неси-ка самовар женушка… И сама, сама, рядышком пристраивайся! Налей-ка нам чайку жёнушка! В твоих руках, и чай особенно ароматный!».
А Сёйли с благодарной нежностью смотрела на своего невзрачного, длинноносого мужа.
Учитель шутил:
«Как ты с делами управляешься? Председатель колхоза, забот полон рот, а в голове – одна жена!».
Мухтар киши не обижался:
«Не будь у меня Сёйли, я бы и дня не выдержал на такой работе. Честно тебе говорю, учитель! Если жены нет рядом, я сам не свой! Ровно душу из меня вынули».
В оригинале более откровенно, без околичностей:
«Не будь Сёйли, ни дня не был бы председателем. Клянусь твоей головой, честно говорю тебе, учитель! Запомни, что я говорю, в тот день, как увидишь, что жены нет рядом со мной, то знай, моей души в моём теле больше нет! Можете пойти и выкопать мне могилу».
Подросток Нуру удивлялся, как можно так откровенно говорить о жене, в присутствии других. У них в семье всё было намного сдержаннее и строже. Он даже признавался в своей зависти Таптыку, своему другу и ровеснику.
…«похоронка»[849], которая пришла в обе семьиПредседатель Мухтар и учитель Таир в один день ушли на фронт, в один день на обоих пришла похоронка.
Жена учителя Таира встретила похоронку сдержанно, не позволяя себе прилюдного плача. Когда женщины попросили у неё одежду мужа для традиционных причитаний, она им отказала.
По-другому повела себя Сёйли, жена председателя Мухтара.
Нуру вспоминает:
«мне до сих пор становится жутко, когда я вспоминаю каким диким, нечеловеческим криком кричала тётя Сёйли. Вокруг неё собрались женщины, они что-то говорили, хватали её за руки, но Сёйли ничего не видела и не слышала, она кричала, не переставая, и клоками рвала на себе волосы»,
«Джумри стоял возле матери на коленях, прижавшись лицом к её лицу, словно маленький, обиженный ребёнок. Он рыдал. Рыдал неудержимо, отчаянно, сотрясаясь всем телом».
Вокруг, в унисон Сёйли и Джумри, причитали в голос женщины, вокруг одежды председателя Мухтара.
Невероятное событие, которое переполошило всё село…Но, через шесть месяцев после получения похоронки, произошло невероятное событие, которое буквально переполошило всё село. Жена председателя Мухтара, красавица Сёйли, вышла замуж за нового председателя колхоза, Джебраила.
Как могло такое случиться? Как могла согласиться красавица Сёйли?
В контексте настоящей книги такой вопрос может показаться риторическим. Так устроены люди, так устроен мужчина, так устроена женщина. Мужчины всегда будут биться за Елену[850], Врет[851] всегда будет уходить к другому.
Но этот ответ слишком общий, выравнивающий, выглаживающий различные культуры, различные времена, различные ситуации. Ответ «всегда будет так» не отменяет вопроса «почему в этот раз так?».
Поставим вопрос более конкретно.
Как могло такое случиться в этом маленьком азербайджанском селе, во время войны?
Как могло такое случиться, в семье председателя Мухтара и его жены Сёйли?
Как могло такое случиться в семье, в которой муж и жена так нежно относились друг к другу, столь открыто выражали свои чувства, что все вокруг удивлялись? В их селе подобное было не принято.
Подросток Нуру в полном недоумении, как могло такое произойти. Ему хочется думать, что это «гнусная сплетня», что это только «неприличные разговоры». Не могла Сёйли выйти замуж за того, кто занял председательское место её мужа, и у которого есть жена и дети.
Он пытается найти объяснение у матери, а она только и может сказать:
«Это плохо, сынок. Это очень плохо».
Так не должно быть, вот и весь её ответ.
…версия «селькора»Жил в селе подросток, которого все называли «Селькор» (Müxbir).
Это низкорослый, худощавый мальчишка, который получил своё прозвище после того как напечатал свою первую заметку в районной газете.
Как правило, селькор обо всём, что происходило в селе, узнавал первым, и распространял новости по всему селу.
Селькор рассказывал, что в молодости Джебраил был милиционером, и девушки на селе шептались, что второго такого красавца как Джебраил, не сыскать на всём белом свете. Ещё тогда он поглядывал на красавицу Сёйли, и Сёйли, говорят, была к нему неравнодушна. Но почему-то выбрала не статного милиционера, а невзрачного Мухтара.
И ещё говорят, что Джебраил ждал двадцать лет, как только представился случай, вернулся в село, теперь уже в качестве нового председателя, и женился на Сёйли. Селькор не скрывает своего удивления, за глаза все называют Джебраила Азраилом[852], а он способен на такую любовь. Удивительно, что и война может принести кому-то счастье.
Но и Селькор не может поверить в подобные бредни о том, что «красавец» и «красавица», о том, что «неравнодушна», что «ждал двадцать лет». У него своя, несколько фантасмагорическая, версия происшедшего. То ли от кого-то услышал, то ли – наиболее правдоподобно – услышал, добавил, приукрасил.
По его мнению, всё это дело рук НКВД. Они вездесущи, от них никуда не скрыться, они как самум, как песчаный ураган, налетает вихрем, может унести с собой самого человека, да так, что ничего больше о нём не узнаешь.
И в этот раз, дело не в прежней любви, кто знает, была она или не была, всё дело в этом НКВД, которое появляется подобно ветру самум.
И в этот раз, невесть откуда, появились люди из НКВД, насильно напоили, насильно раздели, насильно уложили в постель, и при этом не переставали издевательски смеяться.
Пришлось Джебраилу и Сёйли смириться, а что еще можно сделать.
В русской редакции ни слова про НКВД. То ли сама версия показалась фантастической, то ли не следовало ставить под сомнение репутацию НКВД.
Таптык и Джебраил…Подросток Таптык не задумывается над тем, как могло такое произойти.
Он знает только одно, он не может, не должен с этим смириться, и он никогда с этим не смириться. Джебраил, захвативший их дом, должен уйти, или умереть.
Возник странный треугольник: подросток, его мать, её новый муж.
Невольно вспоминается «Гамлет»: Гамлет, Гертруда, Клавдий[853].
И там и здесь, сын между матерью и её новым мужем, и там и здесь, женщина переходит от того, кто был у власти, к тому, кто сейчас во власти.
Но дальше – принципиальная разница.
Вместо Гамлета, который хочет понять как возможен мир, в котором «порвалась связь времён», которому, прежде чем совершить поступок, важно задуматься «быть или не быть»[854], тщедушный подросток, который не отягощён мыслью, который не собирается разгадывать тайны мира, который готов в одиночку восстановить порушенную «связь времён», если даже придётся прошибить лбом стену.
Сначала Таптык избирает самый просто способ борьбы, он разбивает ставни окон, кромсает топором наглухо закрытые изнутри ворота дома. Потом придумывает более дерзкий способ борьбы.
Каждый вечер он подходит к воротам дома, в котором ещё недавно жил вместе с матерью и братом, бросает камни, кричит во всю глотку:
«Выходи, сукин сын, Азраил! Выходи скотина! Не позволю, чтобы ты рассиживал в этом доме! Убирайся отсюда! Иначе ты не останешься в живых! Ты слышишь?! Не останешься в живых!».
А однажды, когда он повторял эти слова, он внезапно сам зарыдал.
Достаётся и матери, которой адресована его незамысловатая песенка.
Белый хлеб, барашков жратьХорошо ли председатель?На чужой кровати спатьХорошо ли председатель?В оригинале песня более бесстыжая. Перевести её можно приблизительно так: «Белый хлеб, барашков жрать Хорошо ли председатель колхоза… па белотелой красавицы Хороша ли председатель колхоза» («Ağ fətir, əmlik əti, yaxşıdırmı, a kolxoz sədri? Ağcamaya xanımın…tü, yaxşıdırmı, a kolxoz sədri?!»).
На четвёртый день, когда Таптык держал в руке камень и выкрикивал свою песенку, навстречу ему вышел Джебраил. Нуру который рассказывает эту историю, удивился спокойствию Джебраила, ни один мускул не дрогнул на его лице, он неторопливо подошёл к Таптыку отобрал у него камень, позвал в дом. Таптык не только не согласился, он плюнул ему в лицо. В ту же секунду он уже лежал на земле, а Джебраил молотил его своими сапогами. Пока его не удалось оттащить другим сельчанам.
Как-то, когда Джебраил стоял близко к самодельной «молотилке», Тапдык сумел внезапно остановить её так, что ремень молотилки сильно поранил Джебраила. Все в ужасе замерли. Джебраил тоже стоял молча, не пытаясь остановить кровь, которая заливала его лицо.
И среди всеобщего молчания, хлёстко, как удары кнутом, выкрикивал свою откровенную ругань Таптык:
«Твою мать! Твою жену! Твою дочь! Всех твоих мёртвых и живых!».
Так началась, так продолжалась, эта неравная и беспощадная борьба. Борьба Давида с Голиафом.[855]
Первым начал сдавать Голиаф.
Ему было труднее, приходилось оправдываться «мы поженились по закону, я ушёл из своей семьи, я создал новую семью», но Таптык, как и его брат, стояли насмерть.
Ему было труднее, живому чувству всегда непросто выступать против предустановленности жизни, которая, как правило, требует «наступить на горло собственных чувств», во имя неукоснительных правил коллективной морали.
Ему было труднее, поскольку в данном случае, от имени «предустановленности жизни», выступал упрямый подросток, который готов был умереть, но не сдаться. А он был председателем колхоза и должен был ещё и подчиняться тем, которые «истребительный батальон», которые налетают как «самум» и им невозможно противостоять.
Однажды Они появились, и сельчане воочию увидели самого страшного «начальника» (zor nəçənnik), того, который, по их мнению, «сделал их Сурьмлённую шлюхой».
Они появились, чтобы забрать всё их зерно, не оставить им даже одну пятую собранного урожая, необходимую, чтобы продолжалась сама жизнь.
Джебраил не согласился, и они приказали его арестовать («arestovat naxaqa padlesi»).



