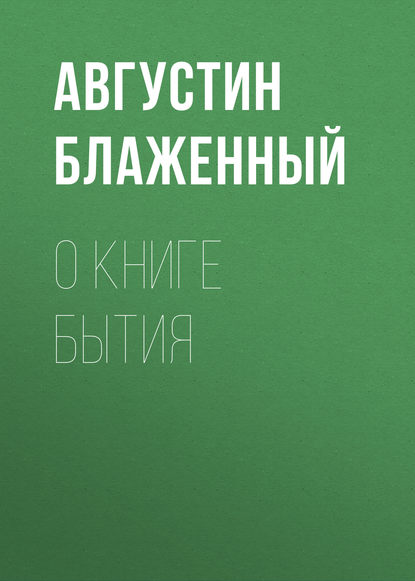 Полная версия
Полная версияПолная версия:
О книге Бытия
Но о нем ли, или о другом каком человеке так сказано, во всяком случае душе превозносящейся и слишком, так сказать, полагающейся на свою собственную силу надобно было путем испытания и наказания дать почувствовать, как нехорошо бывает для сотворенной природы, если она отвращается от Своего Творца. Этим-то преимущественно путем и внушается, какое благо представляет Собою Бог, коль скоро никому, от Него отвращающемуся, не бывает хорошо; потому что и те, которые услаждаются смертными удовольствиями, не могут быть свободными от страха скорбей, и те, которые вследствие большей оцепенелости гордыни решительно не чувствуют зла своего отпадения, на взгляд других, могущих замечать подобное состояние, представляются совершенно несчастными; так что если сами не хотят принять лекарства для избежания такого состояния, то пусть служат примером для избежания его другими. Ибо, как говорит апостол Иаков: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14–15). Исцелившись этим примером от язвы гордости, человек восстанавливается, если его воля, которая прежде была слишком слаба, чтобы пребывать с Богом, стала после испытания сильной настолько, что стала способной возвратиться к Богу.
Глава VI
Между тем, вопрос об искушении первого человека в том смысле, почему Бог попустил ему совершиться, настолько смущает иных, что кажется, они и теперь не видят, что весь род человеческий постоянно искушается коварством диавола. Почему же Бог допускает и это? Не потому ли, что таким образом укрепляется и упражняется добродетель и что награда за нее бывает гораздо славнее в том случае, если она не поддалась искушению, нежели в том, если она вовсе искушению не подвергалась, ибо те, кто, оставив Творца, идут за искусителем, в свою очередь и сами искушают остающихся верными слову Божию, являют им пример для уклонения и внушают благочестивый страх перед гордынею. Поэтому апостол и советует наблюдать каждому за собою, «чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1). Ибо достойно удивления, с какой постоянной заботою всеми божественными Писаниями внушается нам это смирение, которое делает нас покорными Творцу, дабы мы не полагались на собственные силы, как бы не нуждались в Его помощи. Итак, если через неправедных усовершаются даже и праведные и через нечестивых – благочестивые, то напрасно говорят: «Пусть бы Бог не творил тех, которые, как Он предвидел, будут злыми». Ибо почему же Ему не творить тех, которые, как Он предвидел, будут полезны добрым, рождаясь для полезной цели упражнения и вразумления добрых полей и правосудно неся наказание за свою злую волю?
Глава VII
«Лучше бы, – говорят, – Он сотворил человека таким, чтобы он совершенно не хотел грешить». Да, мы согласны, что та природа лучше, которая совершенно не хочет грешить: пусть же согласятся и они, что не зла и та природа, которая сотворена так, что могла бы, если бы захотела, не грешить, и что правосуден приговор, которым она наказана, согрешив по воле, а не по необходимости. Отсюда, как здравый разум нас учит, что та природа лучше, которую не прельщает недозволенное, так здравый же разум учит, что добра и та природа, которая может обуздывать недозволительные влечения, буде они в ней появляются, услаждаясь не только всем дозволенным и правильно содеянным, но даже и обузданием самого этого порочного влечения. Итак, если эта природа добра, а та лучше, то почему бы Бог сотворил одну только ту, а не обе? Поэтому те, которые готовы прославлять Бога за одну ту, тем более должны прославлять Его за обе. Первая принадлежит святым Ангелам, последняя – святым людям. Что же касается тех, которые предпочли порочность и по собственной предосудительной воле извратили достохвальную природу, то они должны были быть сотворены отнюдь не потому, что такими их Бог предвидел. Они имеют свое место, которое занимают в мире, к пользе святых. Ибо сам Бог не нуждается ни в праведности добродетельного человека, ни тем более в неправедности порочного.
Глава VIII
Кто же, руководствуясь здравым смыслом, скажет: «Лучше бы Бог не творил того, кто, как Он предвидел, может исправиться через порочность другого, нежели творил еще и того, кто, как Он предвидел, должен быть за свою порочность наказан». Это значило бы то же, что сказать: «Лучше уже не быть тому, кто, пользуясь хорошо злом другого, получит по милосердию венец, нежели быть еще и тому, кто по заслуге будет правосудно наказан». Ибо если разум указывает на два неравных блага: одно высшее, а другое – низшее, то говорящие: «Пусть то и другое из них будет таким-то» не понимают по тупости сердца, что это значит: «Пусть будет одно только это». Но коль скоро они хотят подобным образом уравнять два рода благ, то этим уменьшают число их и, увеличивая без меры один род, вычеркивают другой. Но кто их станет слушать, если они скажут: «Так как чувство зрения превосходнее чувства слуха, то пусть будет четыре глаза и ни одного уха»?
Точно так же, если превосходнее та разумная природа, которая покорна Богу помимо всякого страха перед наказанием, помимо всякой гордости; и, напротив, в людях она сотворена так, что может познавать благорасположение Божие к себе не иначе, как только видя наказание другого, «не гордясь, но боясь» (Рим. 11:20), т. е. полагаясь не на себя, а уповая на Бога: то кто же, будучи в здравом уме, скажет: «Пусть будет и эта такой же, как та», и не поймет, что это значило бы сказать: «Пусть этой не будет, а будет только одна та»? Если же так говорить невежественно и глупо, то почему же не может Бог творить и тех, которые, как Он предвидел, будут злыми, желая показать гнев и явить могущество Свое и потому с великим долготерпением щадя сосуды гнева, готовые к погибели, дабы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе (Рим. 9:22–23)? Таким образом, «хвалящийся хвались о Господе» (2Кор. 10:17) сознавая, что не только бытие твое не от тебя самого, а от Бога, но и твое благо бытие от Того же, от Кого и бытие.
Итак, крайне неуместно говорят: «Пусть не будет тех, которым Бог сообщал бы такое благодеяние Своего милосердия, если они могут быть только при наличии тех, на которых бы являлось правосудие отмщения». Ибо почему же не могут быть и те и другие, когда в тех и других обнаруживаются благость и правосудие Божие?
Глава IX
С другой стороны, если бы Бог хотел, то были бы добрыми и злые. Тем лучше восхотел Он, дабы они были такими, какими хотят быть сами, но чтобы при этом добрые не оставались бесплодными, а злые безнаказанными и потому бесполезными для других. Но предвидел ли Он, что воля их будет злою? Конечно, предвидел, и так как Его предвидение погрешать не может, то зла не Его, а их воля. Почему же Он сотворил их, хотя и предвидел, что они будут такими? Потому, что предвидит и то, сколько они сделают зла, и то, сколько из их деяний извлечет Он добра. Ибо Он сотворил их так, что у них остается нечто такое, благодаря чему они могут делать кое-что и сами, и что бы они предосудительного ни избрали, могут, однако, находить Его действующим в них похвально. Злую волю они имеют от себя, от Него же – добрую природу и правосудное наказание, (занимая) должное им место и (служа) другим опорой для упражнения и примером для страха.
Глава X
Но, говорят, Он мог бы обратить и их волю на добро, потому что всемогущ. Конечно, мог. Почему же так не сделал? Потому что не захотел. А почему не захотел – это Его дело. Мы должны «не думать о себе более, нежели должно думать» (Рим. 12:3). Но несколько выше мы, полагаю, достаточно показали, что немалое благо представляет собою даже и та разумная природа, которая избегает зла путем сравнения зол; а этого рода доброй природы, конечно, не было бы, если бы Бог обратил все злые воли во благо и не карал порочности заслуженным наказанием: в таком случае оставался бы один только род доброй природы, который остается совершенным без всякого сравнения греха и наказания за зло. Таким образом, с уничтожением, так сказать, численности превосходнейшего рода, умалилось бы число самих родов (доброй природы).
Глава XI
Значит, говорят, в делах Божиих есть нечто такое, что нуждается в зле другого, которым Бог пользуется ко благу? Можно ли людям быть настолько глухими и ослепленными страстью к спору, чтобы не слышать и не видеть того, как многие исправляются при виде наказаний других? Какой язычник, какой иудей, какой еретик не испытывает этого ежедневно в своем доме? Между тем, когда дело доходит до рассмотрения и исследования этой истины, люди не хотят и знать, от какого действия божественного промышления происходит в них это возбуждение к восприятию дисциплины, забывая, что если даже наказуемые и не исправляются, все же примером их держатся в страхе остальные и правосудная гибель других способствует их спасению. Ужели же Бог – виновник злобы и непотребства тех, правосудное наказание которых Он направляет к пользе других, о коих решил печься именно таким образом? Хотя Он и предвидел, что они по собственной порочной воле будут злыми, однако не отказался сотворить их, имея в виду пользу тех, которых Он сотворил такими, что они могут преуспевать в добре не иначе, как имея перед собою пример злых. Ибо если бы не было этих, то те, конечно, были бы совершенно бесполезны. А разве пустяшное дело, чтобы существовали те, которые, несомненно, полезны этому роду, и всякий, кто не хочет, чтобы существовал этот род, чего же он хочет, как не того, чтобы и самому не быть в нем?
«Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные» (Пс. 110:2): предвидит, что будут добрыми, и творит; предвидит, что будут злыми, и творит; предоставляя добрым самого Себя для наслаждения, а злых щедро наделяя многими своими милостями, милосердно прощая и правосудно карая, а также милосердно карая и правосудно прощая, нисколько не боясь ничьей злобы и нисколько не нуждаясь ни в чьей праведности, ничего не извлекая для Себя даже из дел добрых и обращая сами наказания ко благу добрых. Почему бы Ему было не попустить искушения человека, которого путем этого искушения надобно было испытать, победить и наказать, раз высокомерным вожделением собственной власти он достиг того, что раньше задумал, своим деянием привел себя в расстройство, а правосудным наказанием внушал ко злу гордыни и неповиновения страх в своих потомках, которым эта история была описана и стала известной?
Глава XII
Если же спросят, почему диаволу было дозволено совершить искушение именно через змея, то кого же не убедит Писание, что сделано так не без умысла, – Писание столь высокого авторитета, пользующееся в пророческих целях столькими же доказательствами божества, сколькими действиями наполнен мир? Мы не хотим этим сказать, что диавол желал показать нам что-нибудь для нашего назидания; но так как он не мог приступить к искушению иначе, как по попущению, то и сделать это мог только с помощью того, чью помощь ему дозволили. Отсюда, что бы ни значил змей, все это надобно приписывать тому промышлению, находясь под властью которого диавол, хотя и имеет желание вредить, но способность вредить получает только ту, которая дается ему или для совращения и погибели сосудов гнева, или для смирения и утверждения сосудов милосердия. Мы знаем, откуда происходит природа змея: по слову Божию, земля произвела всех скотов, зверей и пресмыкающихся; и вся эта тварь, имея в себе живую неразумную душу, по закону божественного промышления подчинена разумной, доброй или злой, природе. Что же удивительного, если диаволу попущено было совершить нечто при посредстве змея, когда и сам Христос попустил демонам войти в свиней?
Глава XIII
Еще более тонкие вопросы поднимаются обыкновенно о самой природе диавола, которую некоторые еретики, поражаясь его злою волей, стараются совсем вывести из ряда тварей всевышнего и истинного Бога и дать ему другое, противное Богу начало. Они не могут понять, что все существующее, поскольку оно есть какая-нибудь субстанция, представляет собою нечто доброе и может быть только от того истинного Бога, от которого происходит все доброе, но злая воля движется беспорядочно, предпочитая низшие блага высшим; так и произошло, что дух разумной природы, увлекшись своею властью, надмился гордостью, вследствие которой и лишился блаженства духовного рая и начал мучиться завистью. Однако, и в нем есть нечто доброе, а именно то, что он живет и оживляет тело – воздушное ли, как дух самого диавола или демона, или же земное, как душа какого-нибудь злого и извращенного человека. Таким образом, не допуская, чтобы что-нибудь, сотворенное Богом, грешило, они называют субстанцию самого Бога поврежденною и извращенною, сначала по необходимости, а потом и по воле. Но об этом их безумном заблуждении мы уже говорили в другом месте.
Глава XIV
В настоящем же произведении мы должны вести речь о диаволе на основании священного Писания. И прежде всего, с самого ли начала мира, увлеченный своею властью, он отпал от того общества и той любви, какою блаженны ангелы, услаждающиеся Богом, или же он находился некоторое время в сонме ангелов, будучи и сам также праведным и блаженным? Некоторые говорят так, что он ниспал с высших степеней, позавидовав человеку, сотворенному по образу Божию. Но ведь зависть следует из гордости, а не предшествует ей, ибо не зависть – причина гордости, а гордость – зависти, поскольку гордость есть любовь к собственному превосходству, а зависть – отвращение к чужому благополучию. Вследствие любви к собственному превосходству каждый завидует или равным себе за то, что они ему равны, или низшим, боясь, чтобы они не стали ему равны, или высшим, так как сам им не равен. Итак, от гордости каждый бывает завистлив, а не от зависти – горд.
Глава XV
Поэтому Писание определяет гордость как начало всякого греха, говоря о том, что начало всякого греха – гордыня (Сир. 10:15). С этим свидетельством согласуется и то, что говорит апостол: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим. 6:10), если под «сребролюбием» понимать жадность, вследствие которой каждый желает чего-либо больше, чем следует, во имя своего превосходства и по причине некоторой любви к собственности, которой латинский язык мудро присвоил имя частной (privatum) так как, очевидно, свое имя она получила скорее от потери, чем прибыли. Ибо всякая потеря части (privatio) делает меньшим (целое). Отсюда, чем гордость хочет возвыситься, то и повергает ее в тесноту и недостаточность, коль скоро предосудительной любовью к себе направляется от общего к своему собственному. Но есть жадность особенная, которая называется сребролюбием. Обозначая этим названием частный вид, апостол хотел дать понять, что он разумеет жадность как таковую. Ибо вследствие жадности пал и диавол, который любил, конечно, не деньги, а собственную власть. Посему превратная любовь к себе лишает возгордившийся дух святого общества, и когда он пресыщается неправдой, повергает его в злополучие. Поэтому в другом месте, сказав: «Ибо люди будут самолюбивы» (2Тим. 3:2), апостол вслед затем прибавляет «сребролюбивы», переходя от жадности в общем смысле, глава которой – гордость, к жадности в частном смысле, которая свойственна людям. Ибо люди не были бы и сребролюбцами, если бы не считали себя превосходнее богатых. Противоположная этому недугу любовь «не завидует…не превозносится, не гордится» (1Кор. 13:4), т. е. не услаждается частным превосходством, а потому и не превозносится.
Эти два рода любви, из коих одна святая, а другая нечистая; одна общественная, а другая частная; одна – пекущаяся об общей пользе во имя высшего общества, а другая даже и общее благо направляющая к собственной власти во имя самолюбивого господствования; одна покорная Богу, а другая с Ним соперничающая; одна спокойная, а другая страстная; одна мирная, а другая мятежная; одна – предпочитающая истину похвалам заблуждающихся, а другая – жадная ко всевозможным похвалам; одна дружелюбная, а другая завистливая; одна – желающая ближнему того же, чего и себе, а другая желающая подчинения ближнего себе самой; одна – управляющая ближним во имя пользы ближнего, а другая – во имя своей пользы, – эти два рода любви существовали еще в ангелах, один – в добрых, а другой – в злых, и положили различие между двумя градами, образовавшимися в человеческом роде под дивною и неизреченною властью управляющего всею тварью промысла Божия, – град праведных и град нечестивых. Из их временного смешения проходит настоящий век, пока на последнем суде они не будут разделены, и один, соединившись с добрыми ангелами, наследует со своим Царем вечную жизнь, а другой, соединившись со злыми ангелами, будет отослан со своим царем в огонь вечный. Об этих двух градах, если Господу будет угодно, мы, может быть, скажем подробнее в другом месте.
Глава XVI
Но когда именно гордость склонила диавола извратить порочной волей свою добрую природу, об этом Писание не говорит; впрочем, очевидно, что это случилось до того, как он позавидовал человеку. Ибо всем, останавливающим на этом предмете свое внимание, понятно, что не от зависти рождается гордость, а от гордости – зависть. И не без основания можно думать, что в гордость диавол впал испокон веков и что не было раньше времени, когда бы он жил мирно и блаженно с ангелами, но что он отпал от своего Творца с самого начала; так что в словах Господа: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине» (Ин. 8:44) «от начала» надобно понимать в приложении к тому и другому: не только к тому, что он был человекоубийцей, но и к тому, что не устоял в истине. Впрочем, человекоубийцей он стал с того времени, с какого мог быть убит человек, а человек не мог быть убит раньше, чем явился тот, кого можно было убить. Таким образом, диавол – «человекоубийца от начала» потому, что убил первого человека, раньше которого не было никого из людей. В истине же он не устоял с того времени, с которого был сотворен он сам, который мог бы, если бы захотел, устоять в ней.
Глава XVII
А как возможна мысль, что наслаждался блаженной жизнью среди блаженных ангелов тот, кто наперед знал о будущем своем грехе и наказании за него, т. е. отпадении и вечном огне? Если же он наперед об этом не знал, то естественно спросить, почему не знал? Святые Ангелы знают о своей вечной жизни и о своем блаженстве. Ибо как бы они были блаженны, если бы не имели этого знания? Разве, может быть, скажем, что Бог не хотел ему открыть, когда он был еще добрым ангелом, ни того, чем он будет, ни того, что ему предстоит терпеть; тогда как остальным открыл, что они вечно пребудут в Его истине?
А если так, значит – он не был блажен в равной с ними степени, даже совсем не был блажен, потому что вполне блаженные уверены в своем блаженстве, так что не смущаются уже никаким страхом. Каким же злом он отличался от остальных так, что Бог не открыл ему того будущего, которое его касалось? Неужели Бог был мстителем раньше, чем диавол стал грешником? Да не будет! Бог не наказывает невинных. Или, может быть, диавол принадлежал к другому роду ангелов, которым Бог не сообщил предвидения их будущего? Но я не понимаю, как могли бы они быть блаженными, если бы им не было известно их собственное блаженство. Иные полагают, что диавол принадлежал не к той высшей природе ангелов, которые превыше небес, а к природе тех, которые были сотворены и облечены служением в несколько низшей части мира. Допустим, что такие ангелы могли увлечься чем-нибудь и недозволенным; однако подобное увлечение они, если бы не захотели грешить, могли бы обуздать с помощью свободной воли, как и человек, в особенности же – первый человек, еще не имевший в членах наказания за грех, так как с помощью благодати Божией даже и это наказание превозмогается благочестием святых и преданных Богу людей.
Глава XVIII
Далее, вопрос о том, может ли быть назван блаженным тот, кому неизвестно, будет ли он постоянно проводить блаженную жизнь, или же когда-нибудь она сменится для него злополучием, – вопрос этот может возникнуть и относительно блаженной жизни самого первого человека. В самом деле, если он знал наперед о своем будущем грехе и божественном наказании, то как же он мог быть блаженным? Стало быть, в раю он не был блаженным. Но, может быть, он не знал о своем будущем грехе? Но тогда вследствие этого незнания он или не был уверен в своем блаженстве, и в таком случае каким образом он мог быть истинно блаженным, или уверен ложной надеждой, и в таком случае был глупцом.
Но мы можем, однако, иметь представление о своего рода блаженной жизни человека, который находится еще в душевном теле и которому за послушную жизнь должны быть даны сообщество ангелов и изменение душевного тела в духовное, хотя бы он и не знал о будущем грехе своем. Ибо не знали этого и те, которым апостол говорит: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1), и тем не менее не будет странным и нелепым, если мы скажем, что они были блаженными уже потому, что были духовными, не телом, а праведностью веры, «утешаясь надеждой и в скорби… терпеливы» (Рим. 12:12). Тем больше и полнее был блажен в раю первый человек, хотя и не знал о своем будущем падении, так как награда будущего изменения наполняла его такою радостью, что в нем не было никакой скорби, для перенесения которой ему важно было бы терпение. Ибо его уверенность была не тщетным упованием на неизвестность, как у глупца, но верующего надеждой; прежде чем достигнуть того состояния, когда ему надлежало быть вполне уверенным в своей вечной жизни, он мог радоваться, как написано, с трепетом (Пс. 2:11), и этой радостью пребывать в раю гораздо более блаженным, чем блаженны святые в настоящей жизни, хотя, конечно, и некоторым более низким образом, чем будут блаженны святые в вечной жизни святых и пренебесных Ангелов, но во всяком случае – своим образом.
Глава XIX
Сказать же о некоторых ангелах, что они могли быть в своем известном роде блаженными, не будучи уверены в своей будущей неправедности и в осуждении, или, по крайней мере, в постоянном благополучии, так как для них в таком случае не существовало бы надежды, что и они некогда вследствие известного изменения на лучшее будут в этом уверены, – сказать так едва ли допустимо; разве что мы скажем, что эти ангелы были так сотворены и в своем мировом служении подчинены другим более высшим и блаженным ангелам, чтобы за правильное прохождение возложенных на них обязанностей могли получить блаженную и высшую жизнь, относительно которой могли бы быть вполне уверены и радуясь надеждой на которую могли бы быть уже названы блаженными. Если из числа их ниспал диавол с сообщниками своей неправды, то это подобно тому, как отпадают от праведности веры и люди, которые уклоняются с правого пути вследствие подобной же гордости, или обольщая самих себя, или же послушно следуя за тем же обольстителем.
Но пусть кто может, утверждает эти два класса ангелов – пренебесных, в числе которых никогда не был тот, кто вследствие падения стал диаволом, и мирских, в числе которых он находился, – я со своей стороны признаюсь, что пока не встретил в Писании ничего такого, что подтверждало бы наличие этих двух классов, но в виду вопроса, знал ли диавол прежде, чем пал, о своем падении, я, чтобы не сказать, будто ангелы или теперь не уверены, или были когда-нибудь не уверены в своем блаженстве, высказался так, что есть основание думать, что диавол пал и не устоял в истине в самого начала творения, то есть или с самого начала времени, или с начала своего создания.
Глава XX
Поэтому иные полагают, что он впал в эту злобу не по своей свободной воле, а был с нею сотворен, хотя сотворен всевышним и истинным Господом Богом, творцом всех природ, и приводят свидетельство из книги Иова, в которой, когда речь идет о диаволе, написано: «Это – верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой» (Иов. 40:14) (а этому изречению соответствует написанное в псалме: «Там этот левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем» (Пс. 103:26), если только выражение: «это – верх путей Божиих» тождественно с выражением: «которого Ты сотворил», т. е. как бы так, что он был Богом в начале создан злым, завистливым обольстителем, совершенно диаволом; не своею волею развратился, а таким и сотворен.
Глава XXI
Но как согласовать это мнение с написанным, что Бог сотворил все «хорошо весьма» (Быт. 1:31)? Правда, они стараются оправдать себя и не без натяжек утверждают, что не только в первом своем творении, но даже и в настоящее время, при существовании стольких развращенных воль, все сотворенное в целом, т. е. вся решительно тварь, «хороша весьма» не потому, что злые в ней добры, а потому, что они не проявляют своей злости настолько, чтобы красота и порядок вселенной под властью, премудростью и силой Бога-Промыслителя обезобразилась и нарушилась в какой-либо своей части, ибо каждой из воль, даже и злой, определены известные и соответственные границы власти и известное количество заслуг, так что и при существовании этого рода воль, упорядочиваемых соответствующим и справедливым образом, вселенная остается прекрасной. Но так как каждому представляется истинным и очевидным, что было бы несправедливым, если бы Бог безо всякой предшествующей заслуги осуждал в ком-либо то, что Сам и сотворил, и так как об осуждении диавола и ангелов его мы встречаем несомненный и ясный рассказ в Евангелии, в котором Господь предвозвестил, что Он скажет тем, которые по левую сторону Его: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41), то надобно думать, что осуждения на вечный огонь должна ожидать с диаволом не природа, которую сотворил Бог, а собственная его злая воля.



