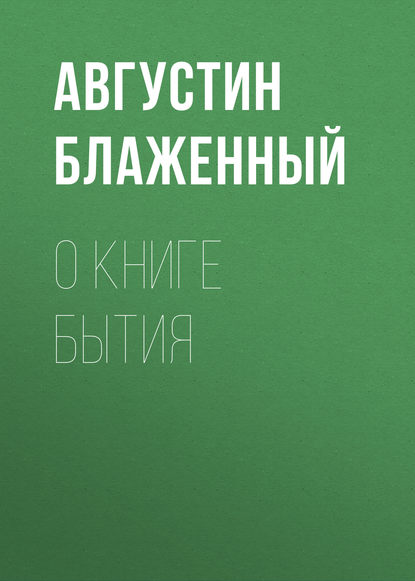 Полная версия
Полная версияПолная версия:
О книге Бытия
Рассмотрим же, что значит «чтобы возделывать его и хранить его». Что именно возделывать и что хранить? Неужели Господу было угодно, чтобы первый человек занимался земледелием? Разве можно думать, что Он осудил его на труд раньше греха? Так бы, конечно, мы думали, если бы не видели, что некоторые занимаются земледелием с таким душевным удовольствием, что отвлечение их от этого занятия является для них великим наказанием. А как бы много удовольствия ни доставляло земледелие теперь, тогда оно было гораздо большим, ибо ни от земли, ни с неба это занятие не встречало ничего противного. Тогда оно было не мучительным трудом, а отрадным наслаждением, так как все, сотворенное Богом, произрастало тогда гораздо обильнее и плодоноснее, отчего в большей степени прославлялся и сам Создатель, даровавший душе, соединенной с животным телом, идею труда и способность к нему настолько, насколько это служило удовлетворением духовного желания, а не насколько требовали того нужды тела.
В самом деле, какое может быть еще более удивительное зрелище, или где человеческий разум может еще, так сказать, так вольно беседовать с природой, как не там, где с помощью семян, при выращивании отводков, при пересадке молодых деревьев, при прививке виноградных черенков он как бы взыскивает силу каждого семени или корня, что она может и чего не может, почему может и почему не может, что значит при этом невидимая и внутренняя сила чисел и что – вовне прилагаемый труд, и в этом рассмотрении приходит к заключению, что «насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3:7), так как и то, что при этом привходит со стороны, привходит через того, кого сотворил и кем невидимо управляет и распоряжается Бог.
Глава IX
Если отсюда мы направим мысленный взор на сам мир, как на некое огромное дерево, то и в нем также откроем двоякое действие Промысла – естественное и произвольное: естественное, совершающееся через сокровенное управление, коим Бог дает рост деревьям и травам, а произвольное – через действия ангелов и людей. Согласно с первым упорядочиваются вверху небесные, а внизу земные (явления), сияют светила и звезды, плотная масса земли орошается и омывается водами, а выше разливается воздух, зачинаются и рождаются, вырастают, стареют и умирают растения и животные и происходит все, что только совершается в вещах в силу внутреннего и естественного движения. Во втором даются, объясняются и постигаются приметы,[23] возделываются поля, управляются страны, развиваются науки и совершается все другое как в высшем обществе, так и в обществе земном и смертном, так что попечением этого действия Промысла обнимаются и добродетельные, и порочные. Та же двоякая сила Промысла обнаруживается и в человеке, и прежде всего по отношению к его телу: естественная – в том движении, каким оно происходит, растет, стареет, а произвольная – в том, каким оно поддерживается пищею, одеждою, лечением. Затем, по отношению к душе человек управляется естественно, чтобы жить и существовать, а произвольно – чтобы учиться и постигать.
И как в дереве тому, чтобы оно росло и что совершается внутренне, внешним образом содействует земледелие, так и в человеке, по отношению к телу, тому, что внутренне совершает в нем природа, помогает внешним образом медицина, а по отношению к душе тому, чтобы она по природе внутренне была счастлива, внешним образом содействует наука. Далее, что для дерева значит нерадение об уходе за ним, то же значит для тела нерадение о его лечении, а для души – небрежение о ее образовании. Наконец, что для дерева значит вредная влага, то же значит для тела гибельная пища, а для души – непотребное наставление. Таким образом, выше всего Бог, который создал все и всем управляет, творит все природы как благой, управляет всеми волями как правосудный. К чему же нам отклоняться от истины, если мы верим, что человек в раю находился в таком состоянии, что занимался земледелием не рабским трудом, а благородно-духовным удовольствием? Ибо что невиннее этой работы для занимающихся ею, и что полнее всестороннего обсуждения для благоразумных?
Глава X
А что хранить? Неужели сам рай? От кого же? Ему не угрожал ни враждебный сосед, ни нарушитель границ, ни вор, ни грабитель. Как же понимать, что телесный рай мог быть охраняем человеком телесно? Но ведь Писание и не говорит «чтобы охранять», а просто «чтобы…хранить» (Быт. 2:15). Хотя, впрочем, если перевести с греческого буквально, то не совсем понятно, хранить ли рай, или хранить в раю. Но что же хранить в раю? Разве, может быть, понять это так: что человек производил в земле при помощи земледелия, он должен был хранить в себе самом при помощи науки, чтобы как поле повиновалось ему как возделывающему, так и сам он повиновался своему заповедующему Господу, дабы, вкушая плод повиновения заповеди, он не получил терний неповиновения? Вот почему, не захотев сохранить в себе подобие возделывания рая, он после осуждения и получил себе такую землю, о которой сказано: «Терние и волчцы произрастит она тебе» (Быт. 3:18).
Если же мы поймем так, что человек должен был именно возделывать и хранить рай, то возделывать рай он мог, как сказано выше, при помощи земледелия, а хранить его не от дурных и враждебных людей, каких тогда и не было, а разве что от зверей. Но каким образом и зачем? Разве звери были уже свирепыми по отношению к человеку, что произошло только вследствие греха? Ибо человек, как потом упоминается, всем зверям, к нему приведенным, нарек имена, а в шестой день, по закону слова Божия, получил со всеми ими общую пищу (Быт. 1:30). Или, если уже было чего бояться со стороны зверей, каким образом один человек мог защитить рай? Ибо то было огромное пространство, коль скоро его орошала такая великая река. Конечно, ему следовало бы, если бы только было можно, оградить рай такой стеною, чтобы туда не мог проникнуть змей, но было бы удивительно, если бы раньше, чем человек оградил бы рай, он смог выгнать оттуда всех змей.
Но почему бы нам не воспользоваться разумом раньше глаз? Человек действительно был помещен в раю для того, чтобы он возделывал его, как выяснено выше, при посредстве не тягостного, а приятного земледелия и предусмотрительного ума, изыскивающего многое и полезное, и хранил тот же рай для самого себя, чтобы не допустить чего-либо такого, за что заслужил бы из него изгнания. Для того он получил и заповедь, чтобы иметь в ней средство, при помощи которого он сохранял бы для себя рай и с удержанием которого не был бы из него изгнан. Ибо правильно говорят, что тот не сохранил известной вещи, кто ею распоряжался так, что ее утратил, хотя она была бы спасительна другому, кто или нашел бы ее, или заслужил получить.
Есть в этих словах и еще один смысл, который я считаю нелишним предложить, а именно: что возделывал и хранил Бог самого человека. Ибо как человек возделывал землю не так, чтобы она стала землею, а чтобы была обработанной и плодоносной, так и Бог человека, созданного для того, чтобы он был человеком, делает таким, чтобы он был праведным, если сам человек не отступает от Бога в силу своей гордыни; ибо отпадение от Бога и есть то, что Писание называет началом гордыни (Сир. 10:15). А так как Бог есть неизменяемое благо, а человек и по телу, и по душе – нечто изменяемое, то он может образоваться в праведного и блаженного не иначе, как обратившись к неизменному благу, Богу. Поэтому Бог, создав человека, чтобы он был человеком, Сам и возделывает, и хранит его, чтобы он был праведным и блаженным. Отсюда изречение, что человек делал землю такою, чтобы она, уже будучи землею, стала обработанной и плодородной, равносильно изречению, что Бог возделывал человека, чтобы он, уже будучи человеком, стал благочестивым и мудрым, и хранил его, потому что своею собственною властью человек, занятый ею сверх меры и пренебрегая владычеством Бога, не может быть целым.
Глава XI
Поэтому, как мне думается, совершенно не случайно, но с целью указать на нечто важное, с самого начала этой божественной книги, с самых первых ее слов: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1) и вплоть до настоящего места, нигде не говорится «Господь Бог», а только «Бог». Теперь же, когда речь зашла о том, что Бог поместил человека в раю и дал заповедь возделывать его и хранить, Писание говорит «Господь Бог» (Быт. 2:15); говорит не потому, что Бог не был Господом и вышепоименованных тварей, а потому, что писано это не для ангелов и не для других тварей, а именно для человека, для напоминания ему, насколько ему полезно иметь Бога Господом, т. е. жить послушно под Его владычеством, а не пользоваться само вольно своею властью; поэтому ранее и не прибавлялось слово «Господь». И вот почему сказано: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его (т. е. дабы человек был праведен), и хранить его» (Быт. 2:15).[24]
Не Он нуждается в нашем рабстве, а мы – в Его владычестве, чтобы Он возделывал и хранил нас; только Он один – истинный Господь, поскольку мы являемся Его рабами не для Его, а для нашей собственной пользы и спасения. Ибо если бы Он нуждался в нас, то не был бы и истинным Господом, потому что благодаря нам увеличилась бы Его неволя, рабом которой Он бы был. Итак, справедливо говорит псалмопевец: «Ты – Господь мой; блага мои Тебе не нужны» (Пс. 15:2). Но не следует наших слов понимать так, что мы служим Богу исключительно ради нашей выгоды и нашего спасения, как бы надеясь получить от Него что-нибудь другое, кроме Его самого, который представляет для нас высшее благо и спасение. Ибо мы любим Его даром, по словам псалмопевца: «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. 72:28).
Глава XII
В самом деле, человек отнюдь не нечто такое, чтобы отступив от своего Творца, мог делать что-нибудь доброе, как бы сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к Богу, Который его сотворил и от Которого он постоянно делается праведным, благочестивым и мудрым, а не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным; потому что телесный врач действует внешним образом, помогая природе, внутренне действующей под властью Бога, устрояющего наше здравие двояким действием Промысла, о котором мы выше говорили. Отсюда, человек должен обращаться к Господу не так, чтобы, став праведным, мог отступить от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его (праведным). Поэтому, доколе человек не отступает от Бога, Бог своим присутствием оправдывает его, освящает и делает блаженным, то есть возделывает его и охраняет, господствуя над ним, послушным и покорным.
Это похоже не на то, как человек обрабатывает землю, дабы, как мы сказали выше, она стала возделанной и плодородной, причем земля, когда человек, обработав, уходит от нее, остается или вспаханной, или засеянной, или орошенной, или еще какой-нибудь иною, сохраняя на себе ту работу, которая была над нею произведена, хотя сам работник уже отошел от нее, а скорее на то, что как воздух не раньше света уже светлеет, а делается светлым от присутствия света, потому что если бы он был уже светлым до света, а не делался светлым от присутствия света, то оставался бы светлым и при отсутствии света; так же точно и человек: в присутствии Бога освящается, а в отсутствии Его остается в постоянном мраке, ибо отступает от Бога не пространственным образом, а отвращением своей воли.
Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. 72:28). Ибо мы – Его творение не только потому, что мы – люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которою мы спасаемся, говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить» (Еф. 2:8—10). И в другом месте, сказав: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12), он, чтобы мы не стали приписывать этого себе, будто бы сами делаем себя праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Итак, «взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его».
Глава XIII
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:16). Если бы это дерево было чем-то злым, почему Бог и воспретил его человеку, то вышло бы, что человек отравлен на смерть самой злой природой этого дерева. Но так как Создавший все «хорошо весьма» насадил в раю деревья только добрые и не было там ни единой злой природы, так как и вообще в мире нет злой природы,[25] то с этого дерева, не бывшего злым, воспрещено было (есть) с той только целью, чтобы само соблюдение заповеди было для человека добром, а ее преступление – злом.
Лучше и точнее нельзя было показать человеку, до какой степени есть зло само непослушание, коль скоро сделался он повинным пороку потому, что вопреки запрету дотронулся до предмета, прикоснувшись к которому без такового запрета он бы, конечно, не согрешил. Допустим, например, кто-нибудь скажет: «Не касайся этой травы», так как она ядовита и прикосновение смертельно; в этом случае, хотя ослушник и умирает, но умирает не потому, что не исполнил приказ, а потому, что прикоснулся (к ядовитому растению). Равным образом, если кто-либо воспрещает прикасаться к предмету, поскольку это принесет вред не касающемуся, а воспрещающему, как, например, если бы кто-нибудь протянул руку к чужому имуществу вопреки запрету того, кому принадлежит это имущество, то (нарушение) подобного запрета было бы грехом, потому что могло бы нанести урон воспретившему. Но раз прикасаются к чему-либо такому, что не вредно ни касающемуся,[26] ни кому-либо другому, то для чего другого оно ограждается запретом, как не для того, чтобы указать: повиновение само по себе есть благо, а неповиновение – зло?
Наконец, грешник желает только того, чтобы не быть под владычеством Бога, раз дозволяет себе нечто такое, в недозволенности чего он должен руководствоваться единственно повелением Господа. А если он должен руководствоваться только этим, то, значит, он не желает повиноваться воле Божией, не любит волю Божию и предпочитает ей человеческую волю. Господь, конечно, знает, почему Он приказывает; слуга Его должен делать то, что Он повелевает, а если это – слуга выдающийся, то, возможно, он может и постигать, почему Он так повелевает. Не станем, впрочем, долго останавливаться на исследовании причины этого повеления, если для человека великая польза заключается уже в том одном, чтобы он служил Богу; повелевая Бог делает полезным все, что ни повелевает, и ни в коем случае не следует бояться, что Он может повелеть что-нибудь неполезное.
Глава XIV
Да и не может быть так, чтобы собственная воля (наша) не обрушивалась на человека великою тяжестью падения, если он высокомерно предпочитает ее воле высшей. Это-то человек и испытал, преступив заповедь Божию и путем этого опыта узнал, какое существует различие между добром и злом, добром послушания и злом непослушания, т. е. гордости и упорства, превратного подражания Богу и преступной свободы. А в связи с каким деревом могло это приключиться, от этого обстоятельства, как сказано выше, дерево и получило свое имя. Ибо оно не было бы злым, если бы мы не узнали этого по опыту, так как не было бы и зла, если бы мы его не совершили. Да и вообще какой-либо природы зла не существует, а имя зла получило умаление добра.
Несомненно, Бог есть непреложное благо, человек же по той своей природе, в какой его сотворил Бог, хотя и есть благо, но благо не непреложное. Преходящее же благо, которое следует после блага непреложного, делается лучшим, коль скоро оно предано непреложному благу, любя Его и служа Ему разумною своею волей. Поэтому и такая природа представляет собою великое благо, так как она одарена способностью быть преданной высшему благу. Если же она не хочет быть такою, то лишается блага, что и составляет ее зло, влекущее за собою, по правосудию Божию, страдание. Ибо что могло бы быть еще в такой мере несправедливым, как если бы изменник благу оставался в благополучии? Этого ни в коем случае и не может быть; но только иногда не чувствуют зла от потери высшего блага, любя благо низшее. Но по божественному правосудию тот, кто потерял по своей воле благо, которое он должен был бы любить, любимое теряет со скорбью. Хорошо еще, что он скорбит об утраченном благе: если бы в его природе не оставалось уже ничего благого, то не было бы и никакой скорби об утраченном благе.
Но кому добро угодно помимо испытания зла, т. е. кто раньше, чем почувствует потерю добра, уже решился не терять его, того надлежит поставить выше всех людей. Ибо если бы это не ставилось никому в особенную похвалу, то не заслуживал бы похвалы и тот Отрок, который, став из рода Израилева Эммануилом, что значит «с нами Бог» (Мф. 1:23), примирил нас с Богом, явился посредником между людьми и Богом (1 Тим. 2:5), Словом у Бога, плотию у нас, Словом-плотию между Богом и нами. Ибо именно о Нем пророк говорит: «Будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» (Ис. 7:15). А каким образом Он мог пренебречь или избрать то, чего не знал, если не так, что добро и зло познаются одним образом через предведение добра и другим – через испытание зла? Через предведение добра зло познается, но не ощущается; в таком случае добра держатся, чтобы вследствие его потери не ощущать зла. В свою очередь, через испытание зла познается добро, и тот, кому бывает худо от утраты добра, чувствует, чего он лишился. Отсюда, Отрок тот прежде, чем по опыту узнал или добро, которого мог бы лишиться, или зло, которое мог бы ощущать в связи с потерей добра, пренебрег злом, дабы избрать добро, т. е. не захотел терять добра, которое имел, дабы не ощущать потери того, чего не должен был терять. Поэтому единственный пример повиновения представляет собою Тот, Кто пришел творить не свою волю, а волю Пославшего Его (Ин. 6:38), в противоположность тому, кто предпочел творить свою волю, а не волю Создавшего его. Поэтому, как через непослушание одного многие стали грешниками, так и через послушание одного многие становятся праведниками (Рим. 5:19); «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
Глава XV
Между тем, некоторые напрасно пускаются в тонкие исследования вопроса, каким образом дерево могло называться деревом познания добра и зла прежде, чем человек преступил заповедь и путем этого опыта узнал, какое существует различие между благом, которое он потерял, и злом, которое снискал. Такое имя дано этому дереву с той только целью, чтобы, согласно запрету, остерегались касаться того, ощущение чего должно было явиться от этого прикосновения. Ибо деревом познания добра и зла оно стало отнюдь не потому, что с него вкусили вопреки запрету; напротив, если бы (прародители) оказались бы послушными и не вкусили бы от него, то и в таком случае оно, конечно, правильно бы называлось тем, что с ними приключилось бы, если бы они с него вкусили. Так, если бы дерево называлось деревом здоровья потому, что люди, благодаря ему, могли бы быть здоровыми, то разве перестало бы это имя ему соответствовать, если бы к нему никто не прикоснулся?
Глава XVI
Но, говорят, каким образом человек мог понять, что значит древо познания добра и зла, когда он совершенно не знал, что такое само зло? Рассуждающие подобным образом мало обращают внимания на то, что весьма часто мы понимаем неизвестное из противоположного ему известного, так что даже названия несуществующего, приводимые в речи, имеют для слушателя определенный смысл. Ибо то, чего совсем нет (non est), никак и не называется; а между тем, эти два слога понимает всякий, кто слышит и понимает по-латински. Откуда же, как не из понимания того, что есть, и из его отрицания наши чувства узнают то, чего нет? Так, когда говорят «пустота», то понимая, что есть полнота, из ее отрицания, как из противоположного ей, мы постигаем, что называется пустотою; при помощи слуха мы судим не только о звуках, но и о молчании; равным образом, в силу присущей нам жизни человек может остерегаться всего ей противного, т. е. лишения жизни, называемого смертью, и как бы ни называлась та причина, вследствие которой он может потерять то, что любит, т. е. всякое действие, от коего могла бы приключиться потеря жизни,[27] он будет понимать, что под этим названием обозначается потеря.
Каким, в самом деле, образом понимаем мы слово воскресение, которого никогда не видели? Не чувствуя ли, что значит жить, и лишение жизни называя смертью, а возвращение от нее к тому, что чувствуем, именуя воскресением? И каким бы другим именем и на каком бы языке мы это ни называли, уму нашему словами говорящего дается знак, под которым он понимает то, что мыслит помимо знака. И надобно удивляться, как природа избегает даже и неизведанной на опыте потери того, чем она обладает. Кто научил скотов избегать смерти, как не инстинкт жизни? Кто научил маленькое дитя прижиматься к своему носильщику, если ему угрожают сбросить его с высоты? Правда, (так делать) оно начинает с известного времени, однако раньше, чем испытает что-либо подобное.
Так же точно к первым людям была мила жизнь; они, без сомнения, избегали потерять ее, и каким бы способом, какими бы словами ни обозначил им того Бог, они могли разуметь Его. Они не могли бы склониться ко греху, если бы не были прежде убеждены, что от этого деяния не умрут, т. е. не потеряют того, что имели и обладание чем наполняло их радостью; о чем, впрочем, речь будет в своем месте. Пусть же те, кого беспокоит вопрос, каким образом (прародители) могли понимать Бога, угрожавшего им чем-то, что не были ими испытано, обратят свое внимание на то, что мы без малейшего колебания и сомнения понимаем названия всего, нами не испытанного, или путем противоположения тому, что уже знаем, если это – названия отрицательные, или путем сравнения, если это – названия видовые. Но, возможно, кого-либо тревожит вопрос о том, как могли говорить и понимать говорящего люди, которые не научились говорить, ибо не росли среди других говорящих (людей) и не обучались этому у учителя? Как будто бы для Бога было трудно научить говорить тех, которых Он сотворил так, что они могли бы научиться этому даже и от людей, если бы только было от кого!
Глава XVII
Спрашивают также, мужу ли только дал Бог эту заповедь, или и жене? Но пока еще (прежде, чем был дан запрет) не было сказано о сотворении жены. Или, возможно, она уже была сотворена, но только об этом было рассказано после? Ибо слова Писания располагаются так: «И заповедал Господь Бог человеку» (а не «заповедал им»). Затем следует: «От всякого дерева в саду ты будешь есть» (а не «вы будете»). Далее прибавлено: «А от дерева познания добра и зла, не ешь те[28] от него» (Быт. 2:16–17). Здесь уже речь обращена как бы к обоим, во множественном числе, и само окончание заповеди выражено во множественном же числе. Разве, может быть, Бог, зная, что сотворит жену, заповедал ради порядка так, чтобы о заповеди Господней жена узнала от мужа? Такой порядок в делах Церкви поддерживает и апостол, говоря: «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих» (1 Кор. 14:35).
Глава XVIII
Возможен вопрос и о том, как говорил Бог с человеком, которого Он создал, несомненно, уже одаренным чувствами и умом, так что человек мог слышать и понимать говорящего? Ибо он не мог бы получить и заповеди, преступление которой делало его виновным, если бы не был одарен способностью понимать. Каким же образом Бог говорил с ним? Внутренне ли, в уме его, мысленно, то есть так, чтобы человек умным образом разумел волю и заповедь Божию безо всяких телесных звуков, или же как-либо материально? Писание повествует таким образом, что мы скорее должны думать, что Бог говорил с человеком в раю так, как говорил Он потом с праотцами, например с Авраамом и Моисеем, т. е. в некотором телесном виде. В этом именно заключается причина, что они услышали глас Бога, ходящего в раю, и скрылись (Быт. 3:8).
Глава XIX
Здесь нам представляется случай обратить, насколько мы можем и насколько удостоит помочь нам в этом Бог, свой взор на двоякое действие божественного Промысла, дабы ум читателя уже с этого момента начал приучаться к рассмотрению того, что в наибольшей мере служит для нас поддержкой и ограждает от недостойных мыслей о самой субстанции Бога. Итак, мы говорим, что высший, истинный, единый и единственный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, т. е. Бог, Его Слово и Дух Обоих, неслиянная и нераздельная Троица, Бог, который один имеет бессмертие и живет в свете неприступном, которого никто из людей не видел и видеть не может (1Тим. 6:16), – сей Бог не содержится ни конечным, ни бесконечным пространством и не изменяется во времени, ни в конечном, ни в бесконечном. Ибо в Его субстанции нет ничего такого, что было бы короче в части, чем в целом, как это необходимо бывает во всем, что находится в пространстве; не было в ней также и чего-либо такого, чего уже нет, как это бывает в тех природах, которые могут претерпевать изменения во времени.



