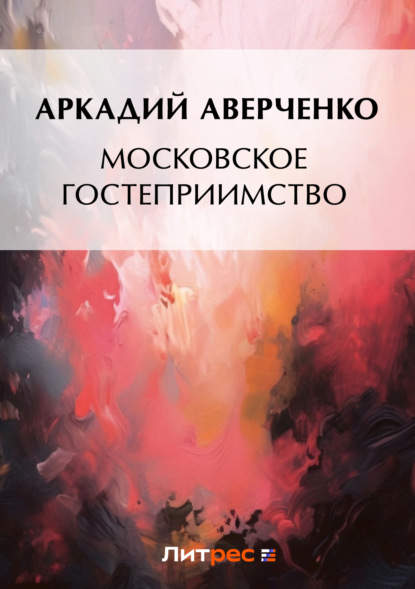 Полная версия
Полная версияМосковское гостеприимство
Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне – она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я вообще поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?
– Вас просят к телефону!
– Кто просит?
– Они не говорят.
– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?
– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.
– Ах ты, господи! Алло! Кто у телефона?!
Говорит барышня. Отвечает:
– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?
– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?
– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?
– Это не комплимент.
– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.
Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.
Я молчу, а она спрашивает:
– Что вы говорите?
Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:
– Вы из дому говорите?
– Какой вы смешной! А то откуда же?
Что бы такое ей еще сказать?
– А я думал, от Киндякиных.
– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится madame Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага…
Это она называет «интриговать».
Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:
– Я его вчера ужасно заинтриговала.
Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?»
Над ухом голос:
– Что вы там – заснули?
– Нет, не заснул.
Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь…
– Алло! Ну что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы поделываете?
Помедлив немного, я разражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:
– Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.
– Алло? Я вас не слышу!
– Кредитные бумажки!!!
– Что – кредитные бумажки?
– Я. Подделываю.
– К чему вы это говорите?
– А вы спрашиваете, что я поделываю? Я не разобрал – два «д» у вас или одно. Вот и ответил.
Этот каламбур приводит ее в восхищение.
– Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Серьезно, что у вас новенького?
Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.
– Как вампиры могут пить такую гадость?
– Что-о?
– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.
Она нисколько не удивляется обороту разговора:
– А вы верите в вампиров?
Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:
– Верю.
– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну скажите: какое основания для этого вы имеете? Алло!
– Что?
– Я спрашиваю: какие у вас основания?
– На кого? – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».
– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.
– Что «для чего»?
– Основания.
– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.
– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?
– Интуиция.
Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой сук:
– Что у вас вообще слышно?
– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.
– У какого Нарановича?
– Портной. Вероятно, дамский.
– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще вы за последнее время ужасно испортились.
И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая проволока – единственное связующее нас звено.
Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и… А ведь в самом деле – может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». (Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!)
Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.
Я кричу:
– Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу – только между нами. Ладно? Даете слово?
– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!!
– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный как смерть! Я…
Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонить), – кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).
Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:
– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54–27.
А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:
– Или трубка снята, или повреждение на линии.
Милая телефонистка.
Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.
Однако когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую – пол холоден как лед.
– Алло! Кто?
– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?
Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:
– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же, на столе. Я кстати и позвонила вам… Алло! Почему не отвечаете? Центральная!! Что это такое? Опять порча? Господи!
Вот я написал рассказ.
Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного легче.
Прошу другие газеты перепечатать.
Корибу
В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.
– Вы редактор?
– Редактор.
– Ей-Богу?
– Честное слово!
Он замолчал, пугливо посматривая на меня.
– Что вам угодно?
– Кроме шуток – вы редактор?
– Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?
– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы сболтнете – я пропал!
Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью – бежать.
Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:
– Э, нет, голубчик! Не уйдешь… Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..
Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.
Я развернул брошенную на стол бумажку.
Вот какое странное произведение было на ней написано.
АФРИКАНСКИЕ НЕУРЯДИЦЫУказания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными, – все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка…
Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»
Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:
– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?
– Да… – робко кивнул он головой.
– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!
Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:
– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.
– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто – описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было… Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?
– Я думал, так безопаснее…
– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил печати?
– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищурился молодой человек.
– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще одно место – самое чудовищное по ненужности и вздорности… Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?
Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:
– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так – ну-ка – пусть догадаются! Ха-ха!
На мои глаза навернулись слезы.
– Бедные мы с вами… – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.
И так долго мы с ним плакали.
И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:
– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! – И тоже плакали над своей горькой участью.
И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки, – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал…
И так плакали мы все.
* * *Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут…
Хлопотливая нация
Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.
Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.
«Это и есть хлопоты», – думал я.
И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.
Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.
С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.
Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.
Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.
– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.
– Похлопочи? Как так похлопочи?
– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет, Куприн тоже хлопочет.
– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.
– Да так. Как обыкновенно хлопочут.
Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.
– Ну что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я.
С этим решением я и поехал в Крым.
* * *Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.
В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:
– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.
– По какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны.
– А по какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны!
– Да по ка-кой при-чи-не?!
– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:
– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?… Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?
Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:
– Могу.
Но вместо этого сказал:
– Удивительная публика… Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.
– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?
– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.
Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:
– Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру… Я тихий. Разрешите? Можно жить?
Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.
Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:
– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.
Я с суеверным ужасом поглядел на него.
Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову, – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?…
Да ну вас к…
Я уехал.
* * *Теперь я совсем сбился:
Человек хочет полетать на аэроплане.
Об этом нужно «хлопотать».
Несколько человек хотят устроить писательский съезд.
Нужно хлопотать и об этом.
И лекцию хотят прочесть о радии – тоже хлопочут.
И револьвер купить – тоже.
Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!
Да, я хочу хлопотать!
Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук – не нужно? Лекцию о радии прочесть – нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и – о чем не нужно? Почему просто «о радии» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?
И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) – сижу и думаю:
– Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?
Вот как:
Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».
Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.
Хорошо бы это все взять да изменить…
Нужно будет похлопотать об этом.
Московское гостеприимство
– А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали… Садитесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рюмочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться… Вот чепуха… Еще раз пообедаете! Что? Нет-с, я вас не пущу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да куда ж вы? Держите! Ха-ха… Удрать хотел… Не-ет, брат… Рюмку водки ты выпьешь! Голову ему держите… вот так! Р-раз!.. Ничего, ничего. На вот, кулебякой закуси. Что? Ничего, что поперхнулся… Засовывайте ему в рот кулебяку. Где мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! Стакан! Что? Не дышит? Ха-ха! Притворяется… Закинь ему голову, я зубровочки туда… Вот так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь балык суй, дурья голова. Видишь – рот разодрал… Не проходит? Ты вилкой, вилкой ему запихивай. Место очищай… Так. Теперь ухи вкатывай… Что? Из носу льется? Зажми нос! Осетрину всунул? Пропихивай вилкой! Портвейном заливай. Ха-ха. Не дышит? А ты вилкой пропихни. Что?… Ну, возьми подлиннее что-нибудь… Так… Приминай ее, приминай… Что? Неужто же не дышит? (Пауза.) Ме-ертвый! Ах ты ж оказия! С чего бы, кажется… Ну, как это говорится: царство ему небесное в селениях праведных… Упокой душу. Выпьем, Парфен, за новопреставленного!
Законный брак
(Стихотворение в прозе)
На берегу суетилась кучка людей…
Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая, в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.
– В чем дело? – спросил я.
– Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.
– Нужно растереть ее, – посоветовал я.
На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:
– Не стоит. Все равно, ничего не поможет.
– Да как же так… Попробуйте устроить искусственное дыхание… Может, отойдет.
– Мм… не думаю. Не стоит и пробовать, – сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.
– Но ведь нельзя же так… сидеть без толку. Пошлите за доктором!
– Стоит ли, – сказал толстяк. – До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет…
– Но… попытаться-то можно?!
– Не стоит и пытаться, – возразил он. – Право, не стоит.
– Я удивляюсь… Тогда одолжите нам вашу простыню, попробуем ее откачать!
– Да что ж ее откачивать, – сказал толстяк. – Выйдет ли толк? Все равно уж… Будем считать ее утонувшей… Право, зачем вам затрудняться…
– Вы жалкий, тупой эгоист! – сердито закричал я. – Небось, если бы это был вам не чужой человек, а жена…
Он угрюмо посмотрел на меня.
– А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена… Моя жена!
Юмор для дураков
Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.
– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?…
– О, помилуйте… – скромно возразил я.
– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку… Я это ужасно люблю.
– Позвольте… Что вы называете «смешной штукой»?
– Ну, что-нибудь такое… юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну… не скромничайте!
– Видите ли… Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».
– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете… Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..
Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:
– Ну, слушайте… Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире»… Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли»? – «Нет, ему подали новую кружку пива».
Не скажу, чтобы эта «смешная штучка» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.
Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:
– Ну?
– Что «ну»?
– Что же дальше?
– Да это все.
– Что же отец… вернулся домой?
– Да это не важно. Вернулся – не вернулся… Все дело в ответе мальчика.
– А что, вы говорите, он ответил?
– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.
– Ну?
– Видите ли… Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, – буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.
– Фигуральное?
– Да.
– Взбесило?
– Да!
– Ну?
– Что еще такое – «ну»?
– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.
– Ну да.
– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится… Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.
– Что-о?…
– Я говорю – трактиры. Еще если холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато… Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.
Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.
Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное – автор имеет право на некоторое поощрение.
Поэтому он принялся смеяться:
– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится… А мать-то, мать-то! В каких дурах… О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.
«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».
– Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь.
– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов… Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю – и что же он видит!
Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать»!
Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:
– Ну, и что же? Догнал он похитителя или нет?
Я вздохнул и начал терпеливо:
– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.
– Важнее?
– Да.
– Сколько он там написал, что пробежит в час?
– Пятнадцать верст.
– Это много считается?
– Порядочно.
– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика – похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?



