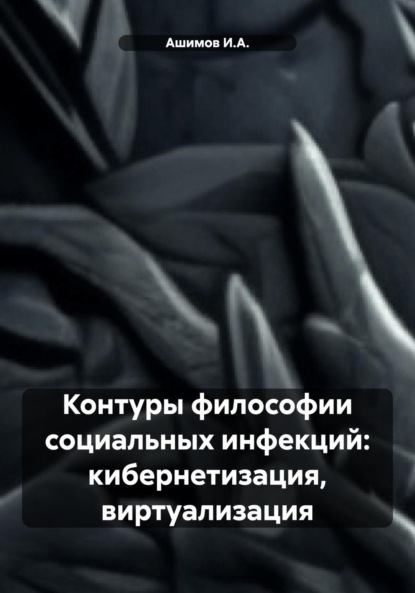
Полная версия:
Контуры философии социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация
Обзор показывает, что перечень социальных болезней, имеющих потенциал пандемии довольно внушительный. П.И.Сорокин (2014) при составлении своего перечня социальных болезней исходил из общепринятого понимания того, что такое "психологические", "политические" и "экономические" феномены. Как видно, все три группы социальных болезней представлены их значительными количествами. Это значит, что данная классификация адекватна реальному состоянию большинства человеческих обществ, тем процессам, которые в них происходят. Тем не менее, в классификации, беря во внимание специфику эпохи глобализации и экстропии можно выделить «технократические» феномены: цифровизация, автоматизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, биочипизация, роботизация. Между тем, учитывая гуманитарный кризис можно выделить и «социологические» феномены: деморализация, деэтизация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация. Одним из демонстративных видов подобной социальной инфекции можно считать социофобию ― разновидность тревожного расстройства, при котором человек чувствует сильный страх и тревогу при любых социальных взаимодействиях. Пациент, страдающий этим расстройством, испытывает панику из-за того, что его слова и действия будут негативно оценены окружающими, поэтому избегает контактов с социумом. При этом страх и тревога не соответствуют фактической угрозе. Все этом может закончится оформлением социальной инфекции в виде распространяющегося социального тревожного расстройства человека и общества. Нынешняя социальная сеть является далеко не безобидной технологией передачи такой инфекции. На то или иное событие люди обрушиваются и пишут обидные, ироничные, саркастические, гневные комментарии в соцсетях, которых читают множество подписчиков, делятся своими суждениями об этом. В результате у человека появляется вся симптоматика инфекции в виде избегания социальных ситуаций, страх перед критикой и оценкой, беспокойство и тревога, нежелание зрительных контактов, ограничение повседневных активностей, страх сделать что-то неловкое и глупое, боязнь стать объектом осуждения или насмешек, повышенное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение, мышечное напряжение.
Как известно, эпидемия – это вспышка заболевания, которая происходит в определенной географической области, тогда как пандемия, напротив, происходит, если заболевание распространяется на несколько областей или на весь земной шар. Изначально возникает вспышка социальной инфекции – резкое увеличение количества людей, заболевших той или иной социальной болезнью. В разгаре данной болезни наступает поражает одновременно множество людей. Если не будут приняты меры, то эпидемия может приобрести статус пандемии. Речь уже идет о распространении той или иной социальной патологии на весь мир. В мире описаны эпидемии тотальной ненависти, русофобии, ксенофобии. Сегодня модно ненавидеть. Любое политическое событие провоцирует в обществе новую вспышку злобы и недоверия, которая выплескивается в окружающее пространство – на улицы и площади, на ТВ и печать, Интернет и социальной сети, которые становятся не только источником социального заражения, но и средством распространения этой инфекции. Истина в том, что социально-политическое манипулирование, психологический массовый гипноз, конечно, существует, но его невозможно навязать, если он не оказывается созвучен уже существующим общественным мнениям. Любая социальная эпидемия цепляется за уже имеющиеся лозунги, идеи и тренды. И вряд ли ненависть так легко легла бы на души нашим людям, если бы за ней не стояли вполне определенные насущные человеческие потребности.
По мнению кыргызского философа Ж.Урманбетовой, даже митинги имеет смысл рассматривать как проявление социальной инфекции. Если то или иное социальное явление обнаруживает востребованность, то оно с неизбежностью стимулирует его количественный и качественный рост. В случае с митингами в нашей республике эти параметры обнаруживают свою удивительную стойкость. Митинги порой имеют спонтанный характер, однако в большинстве случаев они провоцируются и управляются определенными личностями. В этом смысле основной причиной организации митингов является вездесущий конфликт интересов. Чаще всего инициаторами разного рода митингов выступают представители экс-элиты или оппозиции. Митинги в качестве социальной силы спустились на низовые уровни, они все больше являют собой форму решения мелких конфликтов, а не глобальных, с точки зрения общества, социальных движений. Между тем, митинги тиражируют негативные чувства участников, главным образом, чувство ненависти. Следует отметить, что ненависть, прежде всего, снижает душевное напряжение людей.
Сегодняшняя ситуация – ползучий экономический кризис с его периодическими экзальтациями и санкциями, странная война у границы страны, резкое обострение во внешней политике, сокращение социальных программ – все это не может не вызывать массовую фрустрацию. Выручает ненависть. Она вытесняет все нежелательные переживания – от «мы» к «они», из пространства личной ответственности в стан противника. Противник может быть разным в зависимости от политических предпочтений и ценностей ненавидящего. Главное, чтобы он был, этот враг. Затуманивает взгляд. Но затем, по выздоровлению у людей открываются глаза на истину, у них появляются скорбь, боль, раскаяние, а за ними – и чувство обновления, внутренняя сила, уверенность в себе. Тем не менее, в период развития социальной болезни злоба, неверие и ненависть надолго превращается в нечто вязкое, в переживание, из которого так и не извлекается смысл. В период так называемой реконвалесценции инфекции людям приходит чувство того, что они обесценили не только противников, но и себя, свое переживание. У них еще надолго сохранится тяжелое чувство вины, недоверия, неискренности в отношениях. Как и при постинфекционном выздоровлении от банальной инфекционной патологии, после социальной инфекции медленно вырабатывается своеобразный защитный механизм – ксенофобия, за которой стоит потребность и желание сохранять статус-кво и уменьшить тем самым внутреннюю тревогу. Так или иначе за ненавистью и обесцениванием прячется важная потребность людей ощущать свою собственную ценность, в каком бы статусе они ни находились. Это и есть тот самый глубинный, экзистенциальный мотив больного социальной патологией.
Социальной пандемией называется одновременное или последовательное возникновение у большинства населения планеты той или иной идеи, обуславливающих с их стороны одинаковых стилей мышления и действий. Такое возбуждение и влечение есть следствие основного психофизиологического явления, заключающегося в том, что люди испытывают повальное влечение к этой идее и у них создается своеобразная зависимость от нее. Такое чувство людей есть не что иное, как видоизмененное чувство самосохранения, самоидентификации, самосознания. Присоединившись к остальным людям, они чувствуют себя успокоенным, в большей безопасности, и то же чувство, которое влекло их к всему человеческом сообществу, в виде солидарности, из которого вытекает как необходимое внедрится в глобальную интернет-паутину. Здесь особую значимость приобретает сама идея, индуцирующая такое помешательство. В связи со сказанным выше, если исходить из принципа «Пять W», то первый вопрос «Что?» – это сама по себе идеология «кибернетизации» и «виртуализации» как разновидности глобализирующейся социальной инфекции современности. Именно эти идеи и соответствующие концепции являются первым звеном пандемического процесса и составляют суть I фазы – фазы резервации. Как известно, резерватами вышеуказанных социальных инфекций являются, как правило, исследовательские подразделения, специализированные научные институты и центры, которые создаются с целью обеспечения необходимых условий для соответствующих научно-технологических разработок в ранге «ноу-хау», для канализирования усилий определенной группы новаторов нового направления. Согласно концепции эпидемического процесса научно-технологические нововедения в виде кибернетизации и виртуализации следует считать «возбудителями инфекции».
Как известно, присутствие многих людей в одном пространстве уже само по себе действует на каждого из них возбуждающим образом. В настоящее время, «скопление людей» в интернет-пространстве также действует аналогичным возбуждающим эффектом на каждого человека. При этом каждого человека в такой сети следует воспринимать как источника, индуцирующего помешательство идеей цифровизации, кибернетизации, виртуализации. В связи со сказанным, если исходить из принципа «ПятьW», то вопрос «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций, а с другой стороны, звеном распространения социальных инфекций, а также их жертвами. Человек и общество являются главным проводником эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. На этом этапе развития социальной инфекции, бывшая однородной в фазе резервации со временем становится все более неоднородной вследствие появления восприимчивых к инфекциям лиц и увеличения их количества. Именно на этом этапе начинается непрерывное взаимодействие на видовом (человеческом) уровне «возбудителя инфекции» и человеком. Итак, уже на этапе резервации и преобразования вскрывается сущность эпидемического процесса, то есть внутренняя причины их развития, а также условия, в которых протекает действие причины. Нужно отметить, что систематизация материалов этих фаз позволяет ответить в общих формулировках на вопрос, почему развивается эпидемический процесс.
Нужно отметить, что внушение, немедленно приводимые к вовлечению к идее и действиям большой массы людей, наблюдаются только в тех случаях, где объединенная рядом причин и побуждений массы является уже организованным целым, имеющим некий центр, от которого исходит внушение. И чем быстрей и точнее выполняются внушения, чем более эти внушения носят характер внушений прямых – в смысле агрессивного и назойливого настаивания, тем совершенней организация, знаменующая собой наступление эпидемического или пандемического распространения. В этом аспекте, если исходить из принципа «ПятиW» то вопрос «Где?» – это место, очаг, ареол распространения. Как известно, эпидемический очаг – это место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией в пределах которой возбудитель способен передаваться в массовом порядке от источника инфекции к людям, находящимся в контакте с ним. Причем, территориальные границы эпидемического очага зависят от трех основных обстоятельств: во-первых, устойчивость возбудителя к различным факторам; во-вторых, возможности контактов источников инфекции с людьми; в-третьих, механизма передачи инфекции. Нужно отметить, что «кибернетизация», «виртуализация» в единстве развития являются, безусловно, устойчивыми технологиями, имеют сверхэффективными средствами и безотказными механизмами распространения в виде интернет-сети и нейросети. Вначале ареал инфекции ограничиваются пределами исследовательской лаборатории или специализированной научно-информационной компании, а затем уже пределами одного населенного пункта, области, региона, страны, а далее континентов и планеты в целом. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Для эффективного заражения необходима масса воспримчивых к идее, концепциям и технологиям людей.
В целом, ответы на вопросы «Кто?», «Кто?», «Где?» представляют собой первые оценочные выводы о «возбудителях», «источниках», «носителях», «распространителях», а также масштабах распространения вышеуказанных социальных инфекций, тогда как ответы на вопросы «Когда» и «Почему?» – о механизмах и факторах развития и распространения социальной инфекции. Здесь важным моментом познания является свойство восприятия, включающее: предметность, структурность, апперцептивность, константность, избирательность и осмысленность. В свою очередь осмысленность состоит из трех этапов: во-первых, селекция (выделение из потока информации объекта восприятия и познания); во-вторых, организация (объект идентифицируется по комплексу признаков); в-третьих, категоризация и приписывание объекту свойств объектов этого класса. Как известно, выражение идеи в действий и общественный настрой – суть, основной закон жизни. Их следует направлять. Исходя из сказанного и следуя принципа «Пять W» ответы на вопрос «Когда?» характеризуют тенденцию заражения, темпы распространения, охват населения эпидемическим процессом. Именно мировая интернет-паутина и нейросеть являются путями передачи научно-технологической «ноу-хау», как определенная совокупность и последовательность факторов заражения кибернетизацией и виртуализацией населения стран и континентов. Причем, периода инкубации при данной инфекции не существует. Кроме того, невозможно определить территориальные границы очага. Так или иначе пространство эпидемического очага кибернетизации и виртуацлизации как социальных инфекций практически не определяется. Ибо, данные виды инфекции не имеют периода заразительности, практическим неограниченными механизмами и путями передачи инфекции, а также высочайщей степенью восприимчивости людей, а также высоким уровнем устойчивости инфекции.
Нужно отметить, что восприятие идей и концепций социальных инфекций в той или иной форме должна представлять некую целостность, когда всякий объект, идея, суждение, а тем более пространственная предметная ситуация воспринимается как устойчивое системное целое. При этом образ, формируемый в процессе отражения имеет некую совокупность информации. В рамках вопроса «Почему?» центром внимание является установление причинно-следственной связи (этиопатогенез) и механизмов заражения, распространения социальной инфекции (IV фаза). Выше говорилось о том, что высокая вирулентность (заразительность) таких социальных инфекций как кибернетизация и виртуализация объясняется наличием высокоскоростной мировой интернет-паутины и нейросети, которые относятся к беспроводным, а следовательно, неуправляемой сетевой средой – среды в которых происходит непосредственная передача той или иной социальной инфекции по принципу «прямо от производителя к потребителю». Важно отметить, что существующие на сегодня современные топологии беспроводной глобальной компьютерной сети практически невозможно контролировать и тем более блокировать процесс формирования эпидемических очагов и распространение социальных инфекций. Все это являет собой не что иное как предпосылка к развитию эпидемии, а затем и пандемию кибернетизации и виртуализции как социальных высококонтагиозных, высоковирулентных, неуправляемых и опасных по последствиям социальных инфекций уже технократического характера.
Глава II
Биоэтические, технократические парадигмы и
философские аспекты кибернетизации
как социальной инфекции
Генеративная нейросеть, виртуализация и аватаризация как социальные инфекции с явным пандемическим потенциалом. В основе социальной инфекции технократичекого характера лежит пандемический процесс, понимаемый как непрерывный процесс передачи идейного содержания кибернетизации и непрерывная цепь последовательно развивающихся, неконтролируемых, взаимосвязанных за счет сетевой системы инфекционных состояний человека и общества в целом не только до беспрецедентных масштабов их охвата и поражения, но и ужасной перспективой разрушения экологии самого человека и общества. Подобные социальные инфекции отличаются рядом специфических признаков: во-первых, высокой «вирулентностью» (заразностью) соответствующих идеологических начал; во-вторых, высокой «контагиозностью» (распространенностью) за счет интернет-сети, нейросети; в-третьих, очевидной невозможностью достоверного мониторинга, контроля и регулирования за ареалами инфекционного охвата населения; в-четвертых, невозможностью применения противопандемических мер (изоляция, дистанцирование, карантинизация, вакцинация). В эпоху сверхтехнологий искусственный интеллект стал универсальным термином не только для приложений, которые помогают принимать не только более быстрые и эффективные решения за счет использования внутренних и оперативных внешних данных в реальном времени, но и адаптировать возможность такого решения с учетом реальной обстановки. Однако, когда дело касается основополагающих факторов (искусственный интеллект, интернет-паутина, нейросеть), которые активно внедряются во все сферы деятельности человека, то вышеприведенные функции лишь способствуют пандемическому расширению ареалов распространения кибернетизации и виртуализации.
Алан Тьюринг еще в сороковые годы прошлого века рассматривал вероятность того, что машины когда-либо научатся мыслить. Между тем, на сегодня искусственный интеллект ChatGPT уже прошел этот тест и трудно вообразить, что это значить для человечества в целом даже в ближайшем будущем. Именно А.Тюринг впервые ввел термин искусственный интеллект и представил его как теоретическую и философскую концепцию. Итак, вот уже почти столетие люди задавались реальным вопросом: могут ли машины стать умнее, чем люди? Одни, как, впрочем, Жан-Габриэль Ганасия отрицают такой исход, считая, что это всего лишь миф, навеянный научной фантастикой. Автор напоминает об основных этапах развития этой отрасли науки, о достижениях современной техники и об этических вопросах, все больше требующих к себе внимания. Теперь же, когда искусственный интеллект ChatGPT доказал, что умеет мыслить, ответ на вышеприведенный вопрос стал очевидным – машина стала умнее, чем человек (!). Итак, в настоящее время имеет место тенденция сверхактивного развития и тотализации таких явлений как цифровизация мира, кибернетизация, виртуализация, аватаризация. С точки зрения конспирологов – сторонников «теории заговора» в мире активно продвигается концепция установления Нового Мирового Порядка (Novus ordo seclorum»), а также создания культа технологического совершенствования человека. Идеологами таких веяний считают франкмасонство, конечная цель которых заключается в превращении мира в систематизированную технологическую платформу. Именно об этом говорится в самом начале научно-фантастического романа «Аватар» (Ашимов И.А., 2024). Сюжетное события разворачивается в Центре искусственного интеллекта – признанном научном, суперсовременном и мощном мозговом учреждении (США, Лос-Анжелес) в стенах которого проходит Всемирный Конгресс по нейробиологии под названием «Киберпространство – дом нового Сознания». Именно в этом центре «живет» его Величество современный Бог – искусственный интеллект, как единство тысяч суперкомпьютеров. Кстати, такие центры сейчас существуют практически во всех развитых странах Америки, Европы, Китая, Японии, в которых ежегодно проводятся масштабные научные форумы и счастлив тот, кому бывает суждено окунуться в мир высочайших мыслей, касающихся глобальных проблем человечества, когда ученые и специалисты сообщают о прикладных, концептуальных и фундаментальных проблемах искусственного интеллекта, будущего компьютерной индустрии, цифрового фронтира, сетевых коммуникационных конгломератов, развития киберпространств, виртуалистики, как базы гностической дереализации нашего привычного мира.
Нужно признать, что в решении таких глобальных проблемах, безусловно, тон задают выдающейся ученые и специалисты ведущих мировых держав, которые, как оказывается, так или иначе представляют идеологи и сторонники «Novus ordo seclorum», которые проявили себя проводниками идеи мирового господства. Именно они составляют нынешнюю повестку дня важнейших мировых форумов и тематику исследований важнейших учебных и научных центров мировых держав, касающихся глобальных проблем, в числе которых проблемы тотальной цифровизации, кибернетизации, виртуализации мира, аватаризации мирового социума. В истории науки известны громкие имена идеологов нового Сознания – Генри Форда, Бенджамина Франклина, Дэвида Ноубла, Джона Дезагулье, Чарлза Линдберга, Джона Гленна, Базза Олдрина, Джона Локка, Дэвида Юма и др. Всегда на слуху мирового научного сообщества были имена гениальных ученых из этого же мирового клана, представляющих на многочисленных международных форумах лидирующие в мире Университеты, Центры, Институты, лаборатории и Фонды, в которых они угнездились и разрослись как социальная сеть. Если обратить внимание, именно они выступают практически на всех сегментах мировых форумов модераторами обсуждения проблем искусственного интеллекта, интерфейса электроники и мозга, виртуальной реальности, создания «нового сознания». Так или иначе идеологами, инициаторами, организаторами подобных мировых научных, образовательных, культурологических форумов выступают именно ученые франкмасонского клана. Об этом говорится и в романе «Аватар», определяя их приверженцами философии деизма, которая, как известно, утверждает, что Бог, завершив процесс творения, удалился на покой, предоставив людям самостоятельно совершенствовать его творение. Что правда, то правда, действительно, франкмасоны возомнили себе, что в будущем именно они должны править миром с помощью новых и сверхновых коммуникативных технологий.
Популярность термина «искусственный интеллект» во многом объясняется тем, что все чаще идет толкование о некоей искусственной сущности, который, якобы, будет наделен разумом, а потому, вероятно, будет конкурировать с людьми. Хотя такое объяснение далеко не ново. Вспомните миф о Големе, которого в свое время реанимировали знаменитый британский физик Стивен Хокинг, американский предприниматель Илон Маски, американский инженер Рэй Курцвейл, а также Джон Мак-Карти, Марвин Мински и другие сторонники создания так называемого сильного или общего искусственного интеллекта. Между тем, для них искусственный интеллект изначально представлял собой область науки, занимающейся компьютерным моделированием различных способностей интеллекта, идет ли речь об интеллекте человеческом, животном, растительном, социальном или филогенетическом. В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что все когнитивные функции – обучение, мышление, расчет, восприятие, память, научное открытие или художественное творчество, могут быть описаны с точностью, дающей возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение. В романе «Аватар» речь идет о совершенно новой технологии такой же природы, но несколько парадоксальной, по сути, разработке. В фабуле романа американские ученые из Центра искусственного интеллекта (Лос-Анжелес) и Института мозга в Сан Антонио (Техас), интегрированные в научную компанию «ADI-ARS» в рамках реализации проекта «Trans-Time» разработали биоинформационный комплекс «F-Ash-53», функционирующий на основе интерфейса искусственного интеллекта плюс изолированного головного мозга. На базе математизации биологии и, наоборот, биологизации математики, компания смогла создать так называемое «новое сознание».
Итак, мир стоит на пороге создания технологии кибернетизации, виртуализации, аватаризации личности, когда виртуализированная личность создается внутри виртуального пространства, что само по себе составляет основу для будущей научной сенсации. Обзор научной литературы показывает, что в настоящее время исследования в области искусственного интеллекта пошли именно в таких новых направлениях. Считают, что не так далек тот час, когда вышеприведенная фантастическая идея компликации искусственного и естественного интеллекта наконец произойдет. Нынешние ученые сильно заинтересовались психологией памяти, механизмами понимания, которые они пытались имитировать на компьютере, и ролью знаний и новых когнитивных технологий в мыслительном процессе. Если обратится к истории развития интерфейсов «человек – машина», то ясно, что уже с конца 1990-х годов искусственный интеллект стали объединять с робототехникой и интерфейсом «человек – машина» с целью создания интеллектуальных агентов, предполагающих наличие чувств и эмоций. Это привело, среди прочего, к появлению нового исследовательского направления – аффективных (или эмоциональных) вычислений (affective computing), направленных на анализ реакций субъекта, ощущающего эмоции, и их воспроизведение на машине, и позволило усовершенствовать диалоговые системы (чат-боты). Как отмечалось выше в романе «Аватар» речь идет уже об интерфейсе искусственного интеллекта и «мозга в контейнере» с «рождением» виртуализированной личности – аватара. Интересна по сути, эпизод, когда Джозеф Олсон – директор компании «ADI-ARS» предложил назвать виртуализированную личность «объектом». Почему «объект», а не «субъект»? «Объект» – это графическое изображение, созданного интерфейсом искусственного интеллекта плюс «мозг в контейнере». То есть представляет собой результат не что иной, как дематериализации человека, который превращается в информационно-цифровую единицу. Соответственно, он, утрачивает телесность и традиционную форму репрезентации, а потому логично говорить не о «субъекте», а об «объекте». С позиции философии становится понятным то, что на смену материально-телесной константности человека приходит виртуально-цифровая его аватаризация, благодаря чего вышеприведенный «объект» получает возможность почти безграничного виртуального перевоплощения. Естественно, правильно назвать виртуализированную личность не «объектом», так как это слишком обезличивает, а обозначить его как «аватар», представляющий собой уже игровой онлайн-персонаж виртуальной реальности.



