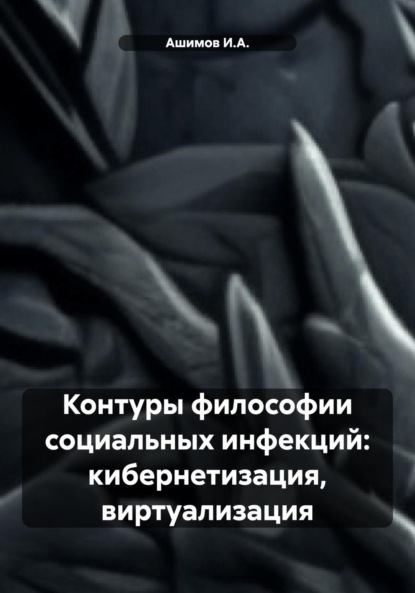
Полная версия:
Контуры философии социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация
Доказано, что борьба с наркоманией и токсикоманией должна вестись на таких же принципах как и при биологической инфекции: жесткая изоляция, уголовные наказания за производство, перевозку и распространение наркотиков и токсикологических веществ. Комплексные меры включают предупреждение об опасностях этих социальных инфекций, блокирование путей распространения, ограждение людей от употребления наркотических веществ, широкая пропаганда здорового образа жизни, создание у людей негативного отношение к употреблению наркотиков, формирование у людей представление о нормах, ценностях и опасностях жизни, а также критического отношения и осуждения наркотических привычек, отчуждение их от тяги к наркомании и токсикомании. Несмотря на предпринимаемые меры вышеуказанного характера, по данным экспертов, число наркоманов в стране, начиная с 2022 года превышает 20000 человек. Причем, 61% наркоманов используют инъекционный способ, а 30% – курение. Как правило, в большинстве случаев мотивом к потреблению является погоня за удовольствием, любопытство, желание забыться, снять стресс, боль, развлечься, какие-то неблагоприятные жизненные обстоятельства. Что касается путей распространения такой инфекции, то нужно отметить следующее. «Если раньше наркотики выращивали, то сейчас используют синтетические. С каждым годом увеличивается количество лабораторий, которые изготавливают этот вид наркотиков. Распространяют их осуществляется через интернет и другие современные технологии. Эксперты прогнозируют, что если наркоситуация в стране сохранится на этом же уровне, то максимум через 10 лет наше общество столкнется с большими проблемами медицинского, социального, психологического характера.
Одной из социальных инфекций, имеющих потенциал пандемии во всем мире является иллюзионизм. Такой инфекцией, к сожалению, заражена и наша страна. Обобщая опыт наших революций или государственных переворотов можно говорить, что в нашей стране находит свою реализацию именно «закон социального иллюзионизма». Суть закона заключается в разрыве между принципами и идеалами, декларируемыми политиками, и реальной действительностью. Как известно, периоды флуктуации общества сопровождаются флуктуацией его идеалов и ценностей, специфика революционного периода заключается в том, что ценности и идеалы, которые провозглашаются на этом этапе, – иллюзорны. Сопоставляя лозунги и декларации, выдвигаемые в ходе февральской и октябрьской революций, с практическими действиями революционных правительств спустя два-три года после установления революционной диктатуры, по П.И.Сорокину (2014), можно полностью осознать всю показательность их полной несовместимости. Вместо обещанных гражданских свобод (свободы совести, слова, печати, оппозиций) – установление жесткого контроля со стороны власти над всеми сторонами социальной жизни и поведения (ограничение свободы слова, печати, собраний, митингов, публичной критики). Вместо провозглашавшего мира – на деле установился диктаторский, полуманархистский режим. Декларировался принцип свободы и демократии, но вместо них установилось жесткое централизованное и бюрократизированное управление, четкое ограничение свободы слова и свободы действия граждан страны. Вместо уничтожения коррупции – разрушена цивилизационная стратегия развития экономики страны.
Что подвигло в свое время кыргызский народ – выйти на площадь с протестами? Прежде всего, подавление инстинктов определенных групп в дореволюционные периоды возрастает не столько абсолютно, сколько относительно, акцентируя внимание на релятивности наших представлений о степени жесткости применяемых репрессивных мер: «человек, объем прав которого достаточно обширен, чувствует себя ущемленным перед лицом более существенных привилегий у других». Подавление базовых инстинктов ведет к разрушению «условных фильтров поведения» и к «биологизации поведения», подталкивает людей к совершению антисоциальных актов. Действие, в мирное время квалифицировавшееся как преступление, в переломные эпохи, став массовым, высокопарно именуется «революцией». Попытки разрешить кризис переходного периода чисто политическими методами – модификацией форм правления – не увенчались успехом и в Западной Европе. Огосударствление общества, по мнению социологов, не предусматривает селекционный механизм, позволяющий в процессе конкуренции и хозяйственного риска отсеивать людей бездарных и выдвигать действительно талантливых, что неизбежно ведет к безынициативным, примитивным способам ведения хозяйства и к эскалации политического насилия. Во время кризисов действия людей подчиняются закону «позитивной и негативной поляризации». По этому закону люди не ведут себя однозначно: одна часть общества становится более склонной к социальной аномии (негативный полюс), а другая – к моральному совершенствованию и религиозности (позитивный полюс). Человечество и каждый отдельный человек стоят перед экзистенциальным выбором. В зависимости от типа личности, превалирования в ее поведении биологического или социального начала, индивиды тяготеют либо к одному полюсу, либо к другому. В политике этот процесс сказывается в распространении всевозможных тиранических диктатур и в постепенно набирающих силу народных движениях, участки которых выступают за создание компетентного, честного, морально ответственного правительства из народа, волей народа и ради народа. Примерами «негативной поляризации» может быть рост эгоизма и самоубийств, ожесточения, тупая покорность судьбе, криминальные деяния и т.д. «Позитивная поляризация», по П.И.Сорокину (2014), проявляется в росте творческих усилий и альтруизма, в жизни по моральным заповедям, возникновении и развитии пацифистских и ненасильственных ассоциаций, во взаимном проникновении и интеграции разных мировоззренческих ориентации. Результат «эпохальной борьбы» между силами «позитивной» и «негативной поляризации», считает автор, никто не в состоянии предсказать с уверенностью. Однако тенденция, по мнению ученого, оптимистическая: силы позитивной поляризации обнаруживают способность для сдерживания и уменьшения гибельных действий сил «нерелигиозности и деморализации». Какая из этих альтернатив осуществится зависит от каждого из нас. Окончательный исход этой борьбы во многом будет зависеть от того, сумеет ли человечество предотвратить новую мировую войну.
Одним из распространенных социальных инфекций является авторитаризм – тип недемократического политического режима, основанного на несменяемой централизованной власти одного лица или группы лиц (политпартии) при сохранении в стране определённого уровня экономических, гражданских, идейных свобод. Такой режим установился во многих государствах, включая и страны Центральной Азии, а потому о природе режима население хорошо информировано. Режим предполагает подавление оппозиции или её полное отсутствие, а также невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства. Авторитарные лидеры используют власть, не принимая во внимание отличные от мнения власти и разрешённой оппозиции политические взгляды, и их почти невозможно сменить путём выборов, что наблюдается в Туркменистане, Таджикистане. Если авторитарные режимы в этих странах являются откровенными диктатурами, то в остальных странах Центральной Азии режимы носят характер «соревновательного» либо «электорального авторитаризма». Вообще, следует отметить, что почти треть государств в современном мире классифицируются как авторитарные. Причем, авторитаризм имеет свойство высокой заразительности. Об этом свидетельствует появление тенденции перенимания авторитарного режима во многих странах. Правителей привлекает то, что авторитаризм – это, прежде всего, социально-политическая система, основанная на подчинении государству и его лидерам. По сути, устанавливается «полицейский» тип управления, единовластие, когда верховная власть, по сути, узурпирует все ветви государственной власти. Лидеры таких стран считают, что такая социальная установка вселяет им уверенность в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям. На сегодняшний день, становится очевидным как Кыргызстан, некогда прославившейся островком демократии в азиатском континенте постепенно скатывается к диктатуре. Это означает то, что политический режим, соответствующий принципам авторитарности, начинает отрицать демократию как в отношении свободного допуска до выборов, так и в вопросах управления страной. Нужно отметить, что авторитарные режимы в странах Центральной Азии, Кавказа произошла из тоталитарного прошлого и использует прежние рычаги в мобилизационных целях: стимулирование экономического роста, наращивание национальной мощи, сохранение политического контроля над обществом. Между тем, в ряде стран бывшего Советского союза все большее значение приобретает так называемый «технократические» способы принятия решений, а именно нацеленность на удовлетворение корпоративных интересов страны в пользу решения общенациональных задач (Эстония, Латвия, Литва, Грузия). В мире существуют и так называемые теократические авторитарные режимы, когда политическая власть сконцентрирована в руках духовенства (Иран, Ирак). Кроме того, выделяется такой вид авторитарного режима как корпоративный авторитаризм, при котором власть находится в руках олигархических, бюрократических или теневых группировок, которые совмещают в себе и власть, и собственность. Авторитаризм представляет собой очень «вирулентную» социальную инфекцию.
Одним из значимых социальных инфекций такого же порядка является тоталитаризм. Если при авторитаризме власть воздействует на общество и публичное пространство лишь по мере необходимости с целью сохранения политической стабильности, то при тоталитаризме власть стремится по умолчанию контролировать все общественные процессы и взгляды каждого гражданина. Если для авторитаризма характерна завязанность на первых лиц, потому что они обеспечивают прежде всего государственный курс, а не идеологию, то для тоталитаризма первостепенна идеология, а не публичный вождь, хотя он всегда присутствует в целях поддержания легитимности политического строя и всеобъемлющей идеологизации населения. В этом аспекте, тоталитаризм более стойкий, не заканчивается с уходом первого лица и практически не способен разрушиться без влияния внешних сил. Нужно отметить, что тоталитаризм часто связан с желанием построить утопическое государство, в то время как авторитаризм в основном предназначен для решения конкретных текущих задач, быстрой мобилизации всего государства. Принцип тоталитарного режима – «запрещено всё, что не разрешено законом», а принцип авторитарного – «запрещено всё, что вредит власти». В отличие от тоталитаризма, население при авторитарной власти не идеологизировано, так как официальная идеология либо отсутствует, либо распространяется только на государственный аппарат. Поэтому оппозиция авторитаризму, как правило, существует, хотя и существенно отличается от оппозиций в условиях демократии. Все эти черты характерны для настоящего времени для Кыргызстана, где уровень терпимости народа к правящей верхушке постепенно падает. Между тем, такая тенденция порождает ответную реакцию со стороны оппозиции и широких слоев населения. Естественно, что предпринимаемые меры на основе оправдания насилия, усиления диктатуры, противоправных способов принуждения населения приводят к народным волнениям, бунтам. В этом плане, Кыргызстан за свою тридцатилетнюю историю уже пережил три социально-политических кризиса со сменой властной верхушки. Все в ожидании, чем же закончится тотализация власти в стране.
Одним из негативных социальных инфекций, имеющих свойство проявить себя эндемией, эпидемией и даже пандемией является бюрократизм. Во всем мире бюрократизм представляет собой отдельно взятые проявления бюрократии, которые в организации управления и власти выражаются в следующих аспектах: волокита, канцелярщина, безответственность, отписки, приписки, протекционизм, семейственность, клановость, местничество, регионализм, трайбализм, взятничество, казнокрадство, делающие работу соответствующей организации неэффективной. Негативность бюрократизма как явления: во-первых, в политическом плане – это чрезмерное разрастание и безответственность исполнительной, законодательной, судебной ветви власти, пренебрежение обратной связи с народом, приводящим к потери ее доверия; во-вторых, в социальном плане – отчуждение этой власти от народа, установление жёсткой вертикали влачи с ослабленной обратной связью, что является непосредственной причиной возникновения конфликтных ситуаций; в-третьих, в организационном плане – канцелярская подмена содержания формой, волокита, плохая взаимосвязь между центром и периферией, между «верхами» и «низами»; в-четвертых, в морально-психологическом плане – бюрократическая деформация сознания, безволие, снижение общественно-политической активности граждан, потеря доверительного отношения к власти. Бюрократизм, если не препятствовать ему, то он имеет свойство заразительно распространяться, за счет чего падает эффективность работы людей на всех этапах, увеличивается формализм, безответственность, инертность работников, усиливается круговая их порука, растет противодействие любым социальным изменениям, инновациям, разрастается конформизм сотрудников. В конечном итоге, власть превращается в самодовлеющую организацию, ставящую во главу угла лишь собственные интересы, игнорируя общественные.
Обращает на себя внимание следующие элементы бюрократизма: во-первых, особый характер отношений между обособленными аппаратами управления и обществом; во-вторых, особые отношения между звеньями бюрократической организации; в-третьих, особые интересы и основанные на них стандарты сознания и поведения чиновников. Б.П.Курашвили различает два типа бюрократизма: добросовестный (максимум общественной пользы при максимуме задаваемого сверху порядка и минимуме доверия к управляемым, минимуме их самостоятельности и инициативы в их собственном деле и в общественной жизни в целом) и своекорыстный (максимум карьеры и корыстного использования служебного положения при минимуме заботы об общественной пользе). Создается впечатление, что в нашей стране превалирует именно своекорыстный бюрократизм. Тем не менее, далеко не безопасным является и добросовестный бюрократизм. На любом уровне у нас можно видеть армию добросовестных и честных чиновников, которые тем не менее со временем успевают пропитаться не только эгоцентрическим духом аппарата, профессиональным снобизмом, технократическим высокомерием, ведомственностью, но и чувствами семейственности, клановости, местничества, регионализма, трайбализма, национализма. Все эти негативные последствия бюрократизма сказываются своекорыстным обособлением и отчуждением аппарата управления от общества, использование в корыстных интересах предоставленных им властных полномочий, элитарно-кастовые тенденции в их среде. Эти явления заразительны и ведут к тому, что наступает: во-первых, подмена общих, государственных интересов частными, ведомственными, а чаще всего личными интересами; во-вторых, полная апатия по поводу назначения своей деятельности и ее конечного результата; в-третьих, обоготворение местного авторитета, а следовательно и местных интересов; в-четвертых, желание укрыть свои дела под покровом тайны, создавая культ секретности.
Доказано, что бюрократия как система всеми силами стремится вывести из-под контроля общественности большую часть своей деятельности, а также поддерживать социальную дистанцию: секретность, закрытие каналов коммуникации, что обеспечивают им монополию власти. Бюрократизированное государство, к каковым, безусловно, можно отнести и нашу страну, усиливает власть аппарата в ущерб власти иных социальных слоев и групп общества. Вначале социально-экономическое господство, а затем политическое давление, лоббирование и протаскивание различных интересов бюрократизированного аппарата в парламенте страны и превращение одного класса, на который сделана ставка, в господствующий. Этот класс создает условия и механизмы удержания своей власти, подчиняя себе все силовые структуры общества. В данном случае усиливается институт единоличной власти президента и созданной «под него» и ради него политической партии. Развитию и становлению бюрократизма способствует отсутствие контроля за экономической деятельностью со стороны гражданского общества. Аппарат получает в свое распоряжение долю общественного «пирога» независимо от результата своей деятельности, исходя из места в государственной иерархии, степени власти. Парадоксальность ситуации заключается в том, что чем выше государственный служащий занимает место в иерархии рангов, тем более он отождествляет себя с государством. Между тем, еще В.П.Макаренко подчеркивал, если граждане и чиновники – винтики низших уровней управленческой пирамиды – переносят вину на вершину политической власти, то высшее чиновничество склонно винить во всем низшие звенья управленцев и самих жалобщиков. Получается замкнутый круг, который подпитывается стереотипами общественного мнения о том, что только члены властно-управленческого аппарата могут быть носителями правового сознания и политической культуры. По сути, речь идет о саморазвивающейся системе и особой социальной инфекции, отличающейся особой заразительностью и масштабом распространения, когда доминирующим становится не результат, а сам процесс и его абсолютизация.
Важно подчеркнуть, что сохранение бюрократической структуры лишь ради самой себя превращается в единственную цель – надуманно усиленное делопроизводство, бумаготворчество, формализм, приписки, отписки, имитация бурной деятельности, когда чиновник множит подчиненных, но не соперников, чиновники работают друг на друга. Практически в каждой стране ежегодно пытаются сокращать кадры, но тщетно, они вновь и вновь разрастаются. Речь идет о так называемом «болезни С.Паркинсона»: работник, сочетающий полную непригодность к своему делу, но с завистью к чужим успехам, не справляясь со своей работой, всеми силами пытается сделать карьеру и в конце концов выбивается в начальника. Он начинает выживать тех, кто способнее его, и не дает продвинуться тем, кто может заменить его в будущем. В конечном итоге штаты заполняются людьми, которые глупее начальника. Чтобы жить спокойной жизнью в таком учреждении, все принимают эти правила игры и пытаются выглядеть глупее, чем они есть. Трагедия такого учреждения заключается в том, что кадровый состав в целом оказывается профессионально непригодным. Такое учреждение недееспособен. Такая модель характерна для всей вертикали власти, вплоть до высшего властного аппарата. В этом заключается вся трагедия бюрократического государства. Бюрократизированное государство, прикрываясь демократическими лозунгами, на самом деле влечет неимоверную угрозу вначале политической, а затем и иным свободам общества. Характерной чертой бюрократизированной правовой системы является приоритет нормативных актов, изданных исполнительными структурами власти (указов, постановлений, распоряжений, инструкций), над нормативными документами законодательных органов. И нередко подзаконные акты необоснованно имеют гриф «для служебного пользования» и не доступны для прочтения простому гражданину.
Выясняя издержки бюрократического управления, следует особо остановиться на имеющей место коррупции властного аппарата. Именно коррупция бюрократических структур выступает главным препятствием в нормальном осуществлении прав и свобод личностью. Уход от должного взаимодействия с властью в область, где это взаимодействие строится на взятках, протекции, знакомстве, нарушает правовые механизмы данного отношения. Коррупция – это порча, растление, разложение. В коррумпированном государстве права и свободы человека, с одной стороны, и ответственность власти, с другой, существуют в ограниченном и извращенном виде, что уменьшает эффективную деятельность государства. Коррупция дискредитирует и право, как основной регулятор общественных отношений, формирует устойчивое представление о беззащитности граждан, о невозможности в некоторых случаях реализовать те или иные права и свободы. В умах людей утверждается мысль о том, что коррупция – это единственно возможная форма эффективных отношений между государством и обществом. Коррупция – это прежде всего серьезнейшее злоупотребление своими должностными обязанностями и служебным положением. Взяточничество как самую мощную составляющую коррупции можно считать «традицией» любой бюрократизированной государственности. Чем сильнее государство вмешивается в экономическую сферу, тем масштабнее коррупционная деятельность, характерны и многомиллионные взятки, и включение чиновников в состав акционеров банков, предприятий, коммерческих структур. Бюрократизм порождает коррупцию, а коррупция укрепляет бюрократию. Понимая такой порочный круг, работники заражаются друг от друга такой инфекцией, которая со временем охватывает все более широкие слои общества.
Мир на пороге очередной мировой войны и как утверждает А.Дугин, милитаризация государств в настоящее время все чаще приобретает эпидемический и даже пандемический характер. Как известно, милитаризация означает перевод общества на военные рельсы. Естественно, когда в мир спокойно, нет войны и серьезных вооруженных конфликтов, когда жизненным интересам государств, самому его существованию ничто не угрожает, то чрезмерная милитаризация не нужна. Конечно, любая страна соблюдает некий баланс военных и оборонных интересов, содержит армию, вооруженные силы, способные в критической ситуации его защитить. В политике говорят, что полная демилитаризация есть не что иное, как отказ от суверенитета и согласие с абсолютной зависимостью от какой-то внешней силы. Но интенсивность и размах милитаризации всегда варьируются. В настоящее время уже третий год идет широкомасштабная война между Россией и Украиной. Эксперты говорят о перманентной мировой войне, так как в этой войне принимают участие страны НАТО (Евросоюза, США). «Милитаризация общества в условиях ведения такой войны считается абсолютной необходимостью», – считает А.Дугин. Такой политикой, естественно, заразились не только воющие страны (Россия, Украина), но и все страны НАТО и мира, которые стали переводит свою промышленность на военные рельсы. Если в России и Украине на военные рельсы перевели все государство и общество целиком, то в остальных государствах пока только свои оборонно-промышленные комплексы. Вот-так в мире началась милитаризация по всем направлениям, обострилась старая вражда между некоторыми странами (Израиль и Иран, Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань и др.). Все чаще спорные проблемы, борьба за ресурсы и пространство влияния начались решаться военными методами (Ливан, Сирия, Палестина, Ирак). В мире начались масштабные военные учения-угрозы, активизировалась военная идеология, идеология победы в самом настрое военных и народных масс, в психологии повседневной жизни, когда враждебная идеологическая сила, замешенная на альянсе неонацизма, глобализма и либерализма заметно и повсеместно выросла. В очереди идеологизация всего общества. В таких условиях, естественно, в выигрыше бывают авторитарные режимы: установление военного порядка, запрет проведение выборов, диктат строгой дисциплины, наказание за критику политики государства, власти, церкви. Лишь закон, патриотизм, пропаганда идеи, рост экономики, призывы и пополнение военного состава, все во имя победы. Перечисленные события лишь подтверждают заразительность идеей насильственного решения межгосударственных проблем.
Самым распространенным в мире социальной инфекцией экономического характера является безработица. В 2020 году по данным Международной организации труда в мире насчитывается 400 миллионов безработных, что составляет 5,26% населения планеты. В Кыргызстане, который является аграрной страной большинство людей жили и живут за счёт земли и разведения скота. Начиная с 2000-х годов люди больше стали мигрировать в города, где покупая еду у продавцов, вместо того, чтобы выращивать сельхозпродукты у себя в селе, заниматься там животноводством, чтобы прокормить себя и свою семью, лишь увеличивали число безработных. Как известно, зависимость от работы как от источника денег для приобретения еды и жилища является основой безработицы. Безработица как явление стала постепенно входить в экономическую мысль по мере усиления индустриализации и бюрократизации. Миграция, маргинализация, безработица, рост нищеты и бедности – вот результат такой социальной инфекции, имеющий характер пандемии, если учесть их масштабы по всему миру. Экономический характер носит и такая социальная инфекция как теневизация экономики, которая сопровождается угрозой национальной безопасности государства. Теневая экономика – это не только различного рода нелегальные экономических отношений в сфере производства, потребления и предоставления услуг, но и любое сокрытие доходов, то есть «черного нала». Теневую экономику можно условно разделить на части: во-первых, неформальная экономика, «серый рынок» включает сделки, совершаемые на законных основаниях, но при этом их объёмы скрываются либо занижаются (частный извоз, репетиторство); во-вторых, криминальная экономика, «черный рынок» включает сделки или операции, запрещённые на законодательном уровне (наркобизнес, торговля оружием, проституция); в-третьих, фиктивная экономика представляет собой предоставление различного рода взяток или привилегий, которые законодательно запрещены (субсидии, льготы, квоты). Предпринимателю всегда выгоднее уйти в теневой сектор экономики, чем заниматься официальным оформлением своей деятельности. Потому, они стараются обходить законы и положения, а это и есть переход в теневую экономику. Ускоренный рост теневой экономики может послужить высокой напряженности в обществе, криминализацией экономических отношений, технологическим отставанием, оттоком капитала за границу, что способствует ослаблению конкурентоспособности государства, ослаблению политической власти с утратой доверия населения. Совершенствование государственного контроля, рациональная и справедливая политика способна противостоять теневизации экономики. С учетом высокого дивидентства теневой экономики все страны мира заражены этим недугом. Если проецировать это явление на карту мира можно убедится в том, что у этой инфекции есть все признаки пандемического распространения.



