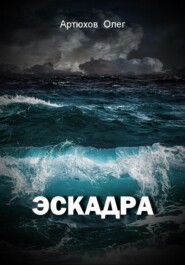 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эскадра
Огромные кредиты Японии, заключение англо-японского договора, прямые поставки в Японию оружия и боевых кораблей вплотную подтолкнули Японию к войне с Россией. А поводом японцы посчитали присвоение Россией спорных территорий в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове.
Формально Россия проявила агрессию. Но, если она действовала в Китае по острой необходимости, вынужденная обеспечивать безопасность своих границ от полчищ бандитов-ихэтуаней и физически защищать своих граждан, то Япония откровенно и цинично захватывала удобные ей земли.
Японцы напали на Порт-Артур осенью 1894 года, и повели себя в захваченном городе как хладнокровные живодёры. Только по приблизительным данным они обезглавили 20 тысяч мирных горожан, дочиста ограбили город и все окрестности и с трудом увезли добычу. Согласно Симоносекскому договору в 1895 году залитый кровью Квантунский полуостров, в том числе и Порт-Артур, по факту захвата Япония объявила своей собственностью, а заодно потребовала от Китая контрибуцию в пересчёте на рубли в 400 миллионов золотом.
Однако союзники: Россия, Германия и Франция, резко воспротивились такому произволу, опротестовали аннексию Квантуна и договор дезавуировали. Под сильнейшим давлением этой троицы Японии пришлось из Китая уйти, так и не получив китайское золото. Обезлюдевшие разорённые порты Дальний и Порт-Артур недолго оставались бесхозными, поскольку лично Николай II принял решение занять опустошённый Ляодунский полуостров. Опережая англичан, русские корабли вошли в бухту пустующего Порт-Артура. Именно этот акт японцы сочли национальным позором и оскорблением достоинства империи.
Сорвавшаяся с резьбы Англия продолжала будоражить весь мир. И теперь по ту сторону времени мы могли наблюдать это воочию. На юге Африки громыхала подлейшая Англо-бурская война. В Китае по воле невидимых кукловодов заполыхало восстание ихэтуаней, в которое поневоле втянулись войска европейских стран. В то время, когда в Париже с невероятным успехом проходила Всемирная выставка, в Пекине уже шли жестокие бои, а на севере кровавые беспорядки докатились до Амура и границ с Российской империей.
Спуску корпусов кораблей на воду предшествовала переброска первой большой группы моряков, технарей и механиков. Им предстояло немало потрудиться на доводке и наладке механизмов, а главное предстояло тщательное «бронирование» генераторами-преобразователями всего корпуса и внутреннего оборудования. Подводную часть корпусов и винты наши спецы-корпусники и их помощники практически закончили обрабатывать на стапеле. Измучились, но сделали всё, как надо. Теперь и вновь прибывшим предстояла огромная по объёму работа. Сорок приборов-преобразователей отправились в Бремен, а шестьдесят остались на линкоре, благо питание от сети позволяло использовать их круглосуточно.
Местные рабочие и мастера недоумённо пожимали плечами, глядя, как наши моряки расчертили весь корпус и оборудование мелом на квадраты, пронумеровали их и принялись с подвесных люлек махать над бортами какими-то непонятными штуковинами. Технарям пришлось не впример хуже, когда ползком и накарачках они лазали по всем закоулкам, облучая внутренний набор и агрегаты.
Между тем под воздействием рекордеров из легированной мартенситной стали, хромо-вольфрамо-титанового сплава, карбина и асбеста корабли начали превращаться в непробиваемые, неломаемые, неизнашиваемые и несгораемые, совершенные машины войны.
Зима в Германии иная, чем в России. Здесь сырой промозглый ветер нудно вытягивает тепло из всего живого: людей, животных, птиц, голых деревьев, пожухлой травы, а холодные дожди превращают землю в вязкую грязь. Снег, если и выпадет пару раз за зиму, то непременно растает. Холодный ветер и студёная сырость, вот что такое зима в Германии.
Несмотря на отвратительную погоду, немецкие судостроители вместе с нашими инженерами, техниками и матросами упорно строили корабли. В отличие от прототипа «Дерфлингера» наш «Тур» имел не прямой, а скошенный (атлантический) форштевень, что по тем временам считалось революционной новинкой в военном судостроении. Чуть выгнутый наружу корпус и приподнятый фальшборт на баке и полубаке с одной стороны прикрывали палубу от осколков близких взрывов, с другой, предотвращал заброс воды на ходу, особенно при волнении, чем грешил «Дерфлингер», который по заслугам называли «мокрым линкором». Продольный набор обшивки одинаковыми относительно «лёгкими» 50- и 100-миллиметровыми железными листами позволил клепать корпус точно, прочно, быстро и аккуратно.
Наступила весна, а за ней и лето 1902 года. Внутри кораблей «маслопупы» доводили до ума котлы, турбины, холодильники-конденсаторы, дизели и валы, тщательно облучали их преобразователями, делая практически неубиваемыми.
На палубах монтажники и такелажники начали сборку башен главного калибра. В огромные колодцы, краны опускали башенные шахты, оборудование, лифты, и, в конце концов, осторожно и точно ставили на погон колпаки башен. Ещё более осторожно устанавливали 52 тонные пушки, по два ствола на башню. Наши судостроители учли ошибки предшественников и сместили башни от носа к центру корабля, что рационально перераспределило колоссальный вес и снизило залповую нагрузку.
К началу зимы орудия на обоих кораблях встали на свои места, и судостроители приступили к монтажу механизмов, возведению и обустройству надстроек. А потом начались не такие тяжёлые, но до невозможности нудные и кропотливые работы по установке и отладке оборудования, прокладке электросетей, налаживанию систем управления и связи. Всю зиму и весну 1903 года корабелы и спецы вдыхали жизнь в металлические громады. А специально обученные матросы по специальной схеме обработки тщательно бронировали каждый сантиметр поверхности.
Весной 1903 года строительство фактически закончилось. До крайности измученные наши судостроители вместе с морпехами отправились домой в наше время, передав корабли экипажам.
И пока немецкие корабелы докрашивали корпуса нашими красками в шаровый цвет, моряки начали обживаться на новом месте, прежде всего занимаясь приборкой и выгребая тонны строительного мусора из всех закоулков. В ответ на их ворчливое недовольство капитан Супрунов неизменно ухмылялся, закатывал рукава и сам брал в руки метлу или носилки:
– Если понадобится, то и говно таскать будем. И знайте, таскать говно не стыдно, стыдно получать от этого удовольствие.
Каждый день к причалу подгоняли вагоны и цистерны, из которых портовые краны перегружали боеприпасы, снаряжение, оборудование, продукты питания, а мощные насосы перекачивали тысячи тонн топлива в корабельные танки. Команды работали днём и ночью, заполняя погреба, трюмы, кладовые и разные ёмкости. Сутки напролёт жужжали и щёлкали генераторы-преобразователи, меняя свойства тех или иных грузов.
Погрузочные работы затянулись до начала лета из-за задержки некоторых боеприпасов, и дольше всех тянул с поставками торпед завод «Торпедо Веркштатт». Впрочем, мы сами в том были виноваты, поскольку заказали новейшие мины С45/03Д с подогревателем. Именно такие нам были нужны для катеров. Пришлось подождать, пока завод по нашей документации освоит выпуск новой продукции и сделает 32 штуки под наш заказ.
Одновременно с последними торпедами в артиллерийские погреба и на склады балкера легли и последние снаряды главного калибра. Теперь нас в Германии ничего не задерживало.
На финальной встрече с Фридрихом Круппом наше командование решило перегон из Германии в Черногорию считать ходовыми испытаниями, и до подписания приёмного акта оба корабля будут ходить под германским флагом с перегонными командами от концерна Круппа. За время перегона наши моряки пообщаются со спецами, наберутся практического опыта и привыкнут к будущим рабочим местам и боевым постам. Да и лимонники пусть призадумаются, увидев на суперсовременных судах немецкие вымпелы.
Свои первые робкие метры наши новорождённые корабли прошли ясным июньским утром, когда отшвартовались от стенки причала и по узкому фарватеру медленно двинулись к морю. По руслу реки их пришлось буквально протискивать, почти цепляясь днищем за грунт, и большую часть этого речного участка до балтийской воды кораблям натужно помогали паровые буксиры.
Ни я, ни наши механики ничуть не сомневались в надёжности механизмов, получивших уникальную прочность после обработки преобразователями. Но немецкие перегонщики ничего не хотели об этом слышать и, как положено по регламенту, повышали нагрузку на машины постепенно, давая им время и возможность притереться, и кропотливо проверяли возможности механизмов в разных режимах на скорости не выше 10 узлов вплоть до точки рандеву у острова Шарнхёрн. Дальше оба судна немного ускорились и взяли курс на север. Миновав Датские проливы, наша маленькая эскадра пошла по большой дуге через Атлантику в обход Британского архипелага.
Немного нервозную обстановку, сгладила прекрасная погода, с которой нам сильно подфартило. Лёгкий летний бриз, чистое небо с кучевыми облачками, и лёгкая волна в один-два балла.
С интересом наблюдая за работой командования и экипажа, я облазил весь линкор, но чаще находился либо в дальномерных или штурманских постах, либо в башнях главного калибра. Там наши мужики из команды и артиллеристы не теряли времени и энергично осваивали всю начинку башни: приборы, казематы, погреба, лифты и кабины командира и наводчиков.
– Командора Бора капитан приглашает в ходовую рубку, – проговорил голос по громкой внутренней связи. Раз приглашают, значит, нужно идти. Интересно, что они там затеяли?
На мостике было относительно многолюдно: капитан, штурман, вахтенный офицер, немецкий лоцман, немецкий и наш рулевые, два представителя корпорации Круппа и дирекции верфи, сигнальщик, связист, вестовой и я до кучи.
– Павел Сергеевич, слева в пяти милях два английских лёгких крейсера идут на сближение и пытаются нас подрезать, – проговорил капитан, передавая мне бинокль, – Идут ходко, на 25 узлах. Ваше предложение?
– Не пора ли нам проверить максимальную скорость? – усмехнулся я, глядя на два густо дымящих чужих кораблика. – В конце концов, это ходовые испытания, или нет.
– Согласен, – ответил капитан и отдал приказ, – средний вперёд, – через пять минут, – полный вперёд, – ещё через пять, – самый полный!
Через металл палубы чувствовался идущий изнутри гул, а не обычная для паровых машин того времени вибрация, что очень меня порадовало. Как известно, вибрация корпуса даже при минимальном волнении была главной причиной рассеивания при стрельбе крупным калибром на дальние дистанции.
Прилично разогнавшись за пятнадцать минут, крейсер полетел вперёд, обгоняя ветер, и даже в рубке слышался шум рассекаемой воды, двумя мощными «усами» разлетающейся в обе стороны от форштевня. Сзади в пяти кабельтовых держался наш балкер, но потихоньку отставал.
– Скорость? – не оборачиваясь спросил капитан.
– Тридцать четыре узла и ещё растёт, – ответил совершенно обалдевший представитель верфи, зачарованно переводя взгляд с приборов на капитана и обратно. – Господа, это невозможно! Тридцать восемь узлов! И ещё резерв хода! Боже мой, что же такое мы построили?!
Вскоре оба англичанина остались далеко позади. Достигнув расчётных тридцати восьми узлов, капитан дал команду на средний ход. Немецкие судостроители громко и заслуженно ликовали. И впрямь, молодцы немцы, удивительно трудолюбивый и аккуратный народ, я ни на секунду не пожалел, что мы заказали корабли именно в Германии.
Сделав немалый крюк вокруг Британских островов, корабли пересекли Бискайский залив, ночью прошли Гибралтар, и через три дня крейсерского хода по Средиземному морю приблизились к побережью Черногории.
Вид диких безлюдных мест вызывал сомнение, туда ли мы подошли. Корабли медленно ползли вдоль берега, пока за длинной каменистой грядой не обнаружился глубокий залив с признаками порта. Внимательное изучение берега в несколько биноклей и сопоставление с картой привело нас к выводу, что это и есть портовый городок Бар.
Эхолоты показывали большую глубину и ни одной мели. Впрочем, это было видно и невооружённым глазом: за бортом струилась тёмно-синяя вода без малейшего просвета. Подрабатывая машинами, капитанам и лоцманам удалось осторожно подвести корабли поближе к пирсам. Надо отдать должное правителю Николе, деньги он потратил не зря. Здесь уже работали верфь, сухой док и два достроечных причала с подведёнными дорогами, портовыми и грузовыми кранами и с большими ангарами. То, что нам нужно.
Наверняка у вас возник вопрос: а за каким, пардон, лешим нам сдался этот заход в Черногорию, коль корабли показали себя в высшей степени надёжно и достойно, а закрома полны топлива и боеприпасов? А затем, что по известным причинам мы не могли переправить в Германию иновременное оборудование, снаряжение, оружие, одежду, продукты питания и приборы. Кроме этого германские перегонные команды должны были подтвердить, что доставили корабли именно в Черногорию. И наконец, нам был необходим тихий уголок, чтобы спокойно, без оглядки дооснастить и дообработать корабли, облучить боеприпасы и привести их в нужное нам состояние.
Едва затих грохот якорных цепей, как заявился чиновник, который доставил послание Николы Петровича. Недовольная физиономия визитёра объяснялась тем, что, дожидаясь нас, он уже больше месяца торчал в этой дыре, чтобы передать депешу от правителя. Естественно, текст послания касался денег, Никола волновался и намекал на обещанную премию. Ничего не поделаешь, слово сказано, обещания даны, придётся платить.
В бухте оба наши корабля, как киты среди стайки кильки, возвышались над скоплениями рыбацких лодок, небольших баркасов, шлюпок, пары буксиров и трёх пассажирских пароходов допотопного вида. Вполне очевидно, что наше появление вызвало в этом местечке настоящий фурор. Повсюду на пирсе, на берегу, в городе и на воде, царило небывалое оживление. Я усмехнулся, предвидя фантастические по местным меркам доходы в местных тавернах, кофейнях, ресторанчиках и гостиницах в ближайшие две недели.
Немцы-перегонщики не стали задерживаться и, получив копию акта приёмки и премию, на тех самых допотопных пароходах отплыли в Италию. Теперь корабли целиком и полностью принадлежали нам и нетерпеливо ждали доработки.
В большей степени дополнительные работы касались крейсера. У «Фортуны» была иная задача. Её экипаж должен был за три-четыре дня успеть привести судно в порядок, перекрасить, и установить необходимое оборудование. Затем без малейшей задержки балкер отправится через турецкие проливы в Чёрное море, где в Батуми у фирмы Нобилей нами были заказаны 15 тысяч тонн лучшей бакинской нефти, две тысячи тонн солярки, или, как её называли в это время – «солнечного масла». Специальные масла и смазку было решено доставить из Лукоморья. Заодно в Батуми нужно было залить в танки 5 тысяч тонн чистой ледниковой воды.
Спустя четыре дня аврала «Фортуна» покинула порт, а на крейсере работы продолжились в полный рост. Через открытый в большом ангаре портал из Лукоморья перемещались тонны разных грузов. Вокруг ангара круглые сутки не прекращались работы, в связи с чем пришлось усилить караульные посты, которые уже замучились отгонять от ангара вездесущих любопытных черногорцев.
Все члены боцманской команды с промокшими от пота форменками с утра до вечера и с вечера до утра принимали и распределяли грузы. А потом начали менять облик линкора. Не знаю, где Дитрих отыскал столько ветхой рабочей одежды, кистей и вёдер, но несколько дней под его строгим присмотром сотня моряков, облачившись в потёртые куртки и портки, по шаблону перекрашивала корабль. Теперь линкор получил оригинальный камуфлированный окрас: на фоне общего матового серого шарового цвета появились светло-серые глянцевые и синие матовые горизонтально вытянутые треугольники разного размера. Теперь со стороны линкор пестрел продольными пятнами, и в отдалении сливался с морским фоном, и вряд ли даже с двух миль его сможет различить самый зоркий наблюдатель. К тому же новые модифицированные котлы с горячим наддувом дожигали нефть полностью, и даже на ходу над двумя невысокими трубами вился лишь небольшой полупрозрачный дымок.
Пока моряки красили корабль, перераспределяли и укладывали грузы и устанавливали новое оборудование, наша команда «Темп» плотно занималась боеприпасами. После недолгого спора решили модифицировать взрывчаткой CL-20 только половину фугасных снарядов и пометить их красной краской. Почему только половину? А потому, что 405 килограммовые германские фугасы имели 52 кило взрывчатки, а после обработки их мощь увеличивалась в двадцать раз. Итого 1040 кило, 65 пудов! А теперь представьте себе взрыв этакой дуры! Свыше тонны, это не кошка чихнула! По такому взрыву пристреляться будет практически невозможно. Поэтому мы их приготовили для накрытия уже пристрелянной обычным фугасом цели. Чтобы наверняка.
Таким же макаром обработали и снаряды среднего и малого калибра. Когда вернётся «Фортуна», придётся перебираться к ним и поколдовать над складированными боеприпасами и над их собственными 105 мм снарядами, а главное над торпедами, которые придётся модифицировать все до одной. Посчитав силу взрыва такой торпеды, я слегка содрогнулся. При собственном заряде в 176 кило после обработки она рванёт как три с половиной тонны! Мама дорогая, даже представить невозможно, что будет с вражьей лоханкой после такого бабаха! И вся эта страсть, на которую даже глядеть то боязно, уляжется в трюмы и погреба балкера.
Все члены экипажа вкалывали с утра до вечера. Многодневный тяжёлый и нудный труд изрядно утомил экипаж, но уставшие моряки неизменно растягивали рты в улыбке, слыша в самых разных закоулках корабля добродушное ворчание своего капитана:
– Сегодня суббота, завтра воскресенье, чертовски хочется поработать.
Никто не мог понять, когда он шутит, когда серьёзен. Капитан с суровым выражением лица «ездил по ушам» командирам БЧ, а они почему-то прикрывали ладонями улыбки:
– Если про актрису больше не говорят, что она блядь, это значит, что её популярность падает, а, если своего командира подчинённые между собой, хотя бы иногда, не называют о…уевшим мудаком, значит, его пора снимать с должности.
ГЛАВА 4.
Незаметно закончился июль и подошёл день начала похода. С носового и кормового флагштоков спустились стояночные флаг и гюйс, на грот-стеньгу взлетел длинный вымпел, а морской флаг Черногории с белым двуглавым орлом ветер расправил на гафеле. Издалека ярко красные вымпел и флаг смотрелись весьма грозно и вызывающе. Крейсер начал поднимать пары. Не рано ли? Нет. Мы решили выйти в поход заранее, за полгода до событий, чтобы обучить команды, наработать навыки и при необходимости запутать или напугать вездесущих англичан отвлекающими манёврами.
Линкор снялся с якоря и покинул порт до рассвета, а к вечеру уже огибал итальянский «сапог». На другой день «Тур» лёг в дрейф в пятнадцати милях от южной оконечности Сицилии, где нас должна была поджидать «Фортуна». Должна, но не ждала. Не появился балкер и на следующий день.
Вопиющее нарушение плана-графика экспедиции вызывало молчаливый гнев, и, если настроение экипажа упало ниже уровня моря, то сердитый капитан вообще изошёл матом и затиранил всех офицеров. Такое начало похода не сулило ничего хорошего. Ядрёные загибы капитана Супрунова могли бы выразить общее мнение, но заворачивал он их в узком кругу, во избежание психических травм ни в чём не повинных слушателей.
Лишь на третий день мощная рация на пределе дальности зацепила связь с «Фортуной». Как выяснилось, балкер всё это время торчал в Батуми из-за неразберихи с чиновниками нефтяной кампании, принадлежащей корпорации Нобеля. В этом времени все дела делались неспешно, пока вышли на дирекцию, пока дождались ответа, прошло больше недели. А теперь балкер гнал на максимальной скорости, прошёл остров Скирос в Эгейском море и через сутки должен прийти в точку рандеву.
Так или иначе, мы болтались, как цветок в проруби, на перекрёстке торговых путей, и эта дурацкая ситуация сильно смахивала на загорание голышом посреди центральной городской улицы. Все проходящие мимо суда снижали ход, подкрадывались поближе, чтобы досыта насмотреться на невиданный боевой корабль. Спрашивается, какого рожна мы два года шифровались, если вся наша секретность буквально на глазах осыпалась, будто старая штукатурка под дождём? Однако матерись, не матерись, а дожидаться балкера придётся.
Объединившись, дальнейший путь до Гибралтара мы прошли почти без проблем, если не считать испортившейся погоды. Чуть поштормило, но для наших гигантов четыре-пять баллов – это лёгкая качка. Зато дождливая погода, ветер и ночь помогли скрытно прошмыгнуть через горлышко Гибралтара вблизи африканского берега. Как ни странно, английский хвост за нами не увязался.
За проливом постепенно распогодилось, а, когда мы повернули на юг, и вовсе стало жарко, и даже слишком. Глядя на насквозь пропотевшие робы, командир приказал выдать экипажу тропическую форму, чтобы люди не слегли от теплового удара. Уже на другой день вся команда щеголяла в лёгких синих рубашках с короткими рукавами, шортах, сандалиях и пилотках с козырьком. Только старшие командиры вместо шорт для солидности одели лёгкие длинные штаны и фуражки.
Пока на экономическом ходу форштевни лениво резали океан, на кораблях продолжалась рутинная повседневная жизнь. Командир и старпом гоняли офицеров по тактике и специальности, офицеры гоняли личный состав по общей подготовке и борьбе за живучесть, хотя какая может быть борьба за живучесть на корабле, который физически невозможно ни подбить, ни сломать, ни поджечь. И, тем не менее, боролись. Другое дело отработка действий по боевой тревоге. Вот тут приходилось пахать и пахать с разными вводными, да в неурочное время и минимум ежедневно. Можно как угодно относиться к муштре, но даже неопытному салаге, вроде меня, было очевидно, что раз за разом буквально на глазах оттачивалось боевое слаживание экипажа.
Пока тянется неизбежное затишье, имеет смысл сказать и о моей роли в походе. Если кто думает, что я отвёл себе место высокопоставленного нахлебника, то на это я ему отвечу: чтобы ничего не делать, надо уметь делать всё. На корабле собралось много разных спецов, но разработчики не предусмотрели должности корабельного священника, как это было принято в российском императорском флоте. Поэтому помимо общей стратегической координации похода, мне пришлось проводить душеспасительные беседы, уроки математики и физики, а также организовать занятия рукопашным боем и историческим фехтованием.
Что же касается знания истории Русско-Японской войны и сопутствующих ей событий равных не имелось нашему старпому Алексею Анатольевичу Эссену. Обычно после обеда, или вечером после беготни по тревоге, он рассаживал слушателей в тенёчке и начинал:
– Сегодня мы поговорим об обстановке, сложившейся вокруг русского и японского флотов, чтобы сравнить их состояние и возможности. Скоро вы их увидите воочию, а пока послушайте об известных событиях.
Как вы уже знаете, Англия начала исподволь готовить Японию к столкновению с Россией примерно за десять-двенадцать лет до войны, задумав расправится с ненавистными русскими руками японцев. Япония заглотила наживку и плотно села на крючок английских займов. Спущенные в 1894 году два броненосца «Фудзи» и «Ясима» и два броненосных крейсера положили начало японскому линейному флоту.
Исполняя волю российского императора, в апреле 1895 года броненосец «Николай I» и крейсера «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» под командованием вице-адмирала Тыртова и контр-адмиралов Макарова и Алексеева встали на рейде в Чифу в 75 милях к югу от Порт-Артура, по сути, блокировав подходы в эту акваторию. Фактически изгнанные из Квантуна японцы с яростью смотрели, как в корейских и китайских землях и водах хозяйничают русские.
Заказанные японцами год спустя в 1896 году в Англии броненосцы «Хацусе», «Сикисима», «Асахи» и «Микаса» были развитием новейшего британского проекта «Мажестик», но в отличие от иных броненосцев «Микаса» имел усиленное бронирование и вооружение.
Броненосные крейсера тоже строили по единому техзаданию. «Асаму», «Токиву», «Ивате», «Идзумо» строили в Англии, «Адзумо» – во Франции, «Якумо» – в Германии. Другие быстроходные крейсера заграничной постройки «Такасаго», «Кассаги», «Читосе» имели слабое подводное бронирование и малый запас хода. Лёгкие крейсера 3 ранга «Сума», «Акаси», «Нийтаке», «Цусима», «Отова» строились в Японии, но к началу войны уже устарели и использовались только для охраны караванов. Быстроходные минные крейсера (авизо) и 20 истребителей японцы закупили в Англии, а два десятка миноносцев – во Франции.
Итак, все японские корабли были спущены на воду с 1896 по 1902 годы, тоесть экипажи их освоили, но механизмы ещё не успели износиться, а корпуса коррозировать. Эскадренная скорость в 16 узлов, отличная броня и орудия 12 и 8 дюймов давали им неоспоримое боевое преимущество. Кроме этого, в отличие от русских, все японские орудия имели оптические прицелы, а с января 1904 года на всех кораблях линии уже стояли радиостанции Маркони.



