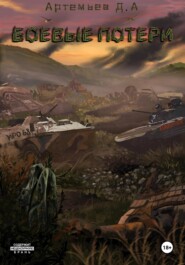скачать книгу бесплатно
– Ты что же это привёз? Мы тебя кормим, крышу на головой дали, а ты? Где нормальные гостинцы, где? Где как у людей принято, где? Много ты себе позволять стал, парень!
– …Вы с ума сошли? Какая крыша? – я, конечно же, растерялся от такого несправедливого обвинения. Ну что это, в самом деле? Я им в похоронщики не нанимался. Горб себе каждую ночь ломаю, машину свою в катафалк, можно сказать, переделал, а меня куском хлеба попрекают. Да идите вы! – Знаете что, если я вам не угодил, то я сейчас же уезжаю. И не надо на меня орать, за постой и еду я вам заплачу, не сомневайтесь. – Само собой, я обиделся.
Сева, поняв, смекнув, что палку они с мамой перегнули, сказал:
– Погоди.
– Ну что?
Видно, что ему неудобно, но пересилив себя, Сева продолжил:
– Погоди, не уезжай. – И матери сказал: – Мама, ты не горячись, иди в дом, я сейчас. – Марина Николаевна, закусив губу, забрав ветошь и яблоки, ушла, но я слышал, как она себе под нос бормотала: «Я ему покажу, ишь какой быстрый. Что привёз-то? Гниль одну». – Слушай, – Сева снова обратился ко мне, – извини мать. Видишь, она не в себе. Да и я тоже… Не серчай, друг, оставайся. Переночуй хотя бы эту ночь, ну куда ты сейчас поедешь, уже девятый час. А завтра решай, никто тебя не гонит, одолжение сделаешь, если останешься.
Хотел я отказать, да не смог. Досадно. Как же я так… мямля. И вот теперь, ночью, (я даже не ложился спать, а если бы лёг, то всё равно бы не заснул – меня трясло всего и мысли в голову лезли разные), я под подмышки нёс покойника, закостеневшего, прямого, как палено, – неприятное ощущение, когда касаешься мёртвой плоти – пускай и через ткань. И голова мёртвого дяди мне макушкой в низ живота упиралась, мокро холодила. И тут меня прорвало, сам от себя не ожидал. Третью ночь не сплю, и днём с мёртвыми тоже вожусь. Выбесила меня, наконец, простота семейки Мышевых. Стоило мне ощутить своим телом покойника, я взбунтовался – не стал помогать Севе, а обратно на стол его родственника (или кто он там ему, не знаю) положил.
– Ты что? – удивился Сева.
– Нет. Не пойду. Хватит с меня.
А Сева посмотрел на меня внимательно и выдал странное, но мне уже знакомое:
– Как тебе не стыдно, ведь мы для тебя столько сделали.
– Вы? Для меня?.. Опупел? – Уж если говорить о том, кто для кого что сделал, то это я Севу два раза на работу пристраивал, а не наоборот, да и сейчас…
Немного разрядвишись, выпустив пар, я пошёл к себе, начал собираться в дорогу. За мной следом в комнату зашёл Сева.
– Ты куда? – спросил он.
– В Москву.
– Погоди.
– Нет. Годил уже.
– Ты же мне обещал с похоронами помочь.
– Нет.
– Стой! – Сева встал в дверях, перегородив мне путь.
– Отойди, – с угрозой сказал я, и он, посмотрев на меня, поняв, что я не шучу, отошёл в сторону.
Я шёл по дому, а он бежал за мной и униженно (и я уверен, что лицемерно) уговаривал – не уговорил. Я вышел из дома и – к машине. Открыл калитку – в спину мне несутся упрёки, угрозы, просьбы, – сделал шаг… и тут свет померк – мне на голову накинули мешок, повалили с ног и потащили…
Страшно болела челюсть и тело было как не родное. С трудом открыв глаза я обнаружил себя сидящим за столом, связанным, крепко примотанным к стулу. Перед глазами плыло, двоилось. Приморгавшись, я стал различать отдельные предметы. Верхний свет в доме не горел, хотя, судя по всему, на дворе забавлялась своей властью ночь, гостиная освещалась свечами. За столом сидели, помимо меня, Мышевы: мать – напротив меня, её сын – по правую руку от меня; во главе стола двое – батюшка в золотой рясе, а рядом с ним бабушка Севы, которая не бабушка. В огне свечей все их лица казались словно сшитые из пергамента, не живые и не мёртвые, а потусторонние, такие, будто в чьи-то старые портреты силы тьмы вдохнули подобие жизни.
На столе стояли столовые приборы, лежали продукты – четыре круглых хлеба, много яиц, жаренная телячья нога, яблочки, конфеты, и стояли три стеклянных кувшина, наполненных какой-то бурой бурдой, – словом, всё то, что бабка через меня Мышевым передавала. А посередине стола, вытянувшись во всю его длину, ждало начало извращённой трапезы главное блюдо поминальной, ночной тризны – тело обнажённого трупа дяди Севы – не знаю уж кого по счёту. При пристальном взгляде становилось понятно, что мертвец разрезан на куски, а потом соединён в целое, как жаренный гусь, – места разрезов выглядели чёрными волосками на фоне жёлтой кожи.
– Вот видишь, что натворил, неразумный, – пробасил батюшка, заметив, что я очнулся. – Начинай, матушка, тризну, начинай, голубушка.
Бабка встала – Мышевы сидели тихо, как мышки, глаза опустили и на покойника смотрели, – поклонилась на четыре стороны и зачистила:
– Боженька, боженька, глазом посмотри, да возьми то, что земля не взяла. Приобщи к благодати, благослови на защиту, разреши оскоромиться, разреши жизнь нашу продлить, да смерть отсрочить.
Я хотел перебить бабку, крикнуть, чтобы меня развязали, рот даже раскрыл, но не смог выдавить из себя и звука: мой язык лежал дохлой гусеницей, а нёба, щёки и гортань словно вяжущими заморозками схватило.
– Ну, приступим, – строго так, насупив брови, провозгласил поганый батюшка-обротень.
Бабушка прикрикнула на Мышевых:
– Ну, милые, дайте угоститься, да гостя вашего не забудьте, не обижайте.
Марина Николаевна и Сева, не поднимая глаз, встали из-за стола и пошли угождать. Сначала наполнили тарелку батюшки, положив ему телятинки, яичек, краюху хлеба, а сверху, в глиняную тарелку, придавив всю еду, водрузили кисть правой руки покойника. Бабушке, Сева положил два яйца, два куска чёрного хлеба, часть живота мертвеца с пупком, вырезанную кульком и насыпал «последок» – батончиков карамелек. На мою долю достались порченные, вяловатые яблочки и грудинка дяди Севы, вынутая из мёртвого тела со стороны сердца, – в открывшуюся дыру я видел внутренности. На разрезе мясо, лежащее в моей тарелке, отливало зелёным перламутром.
– А теперь, рОдные мои, – начал батюшка, – приобщимся к нашему всевидящему одноглазому богу.
Когда он закончил, все посмотрели на меня, а Сева, привстав со своего места, нарезал мне зелёного мяса с потным салом, наколол на вилку здоровенный ломоть и поднёс его к моему рту. Меня передёрнуло от отвращения, я отвернулся.
– Не валяй дурака, люди ждут, – шёпотом проговорил Сева. – Ты сам виноват, что не помог мне третьего похоронить. Теперь жри его, а не то он сожрёт тебя и нас всех впридачу.
– Ешь, Даниил, – сказал батюшка, сказал так, будто не предлагал акт осквернительного каннибализма, а разрешал мне его.
– Ешь, милок, ешь. Умилостиви нашего бога, а мы тебе поможем. Тебе нужно, – присоединилась к увещеваниям батюшки бабушка.
– Ешь! – потребовала Марина Николаевны и обожгла косым взглядом.
– Ну, куда деваться. Давай жуй, друг, – тыча мне в губы мертвечину, воняющую сладкой гнилью, заявил Сева.
Уже после слов батюшки мой рот наполнился слюной, меня затошнило, но когда Сева мне вторично предложил офоршмачиться, я как бы непроизвольно зевнул, и кусок трупной грудинки въехал в меня, как труп в печь крематория. Хрум… хрум, хрум, хрум – и я заработал челюстями. Не хотел, ужасался, а молотил, преодолевая тошноту, чавкал, по подбородку тёк мутный коричневый горький сок, а я жевал, глотал и не мог остановиться. Вслед за мной к трапезе преступили и все остальные. Мы поедали мертвеца, вместе исправляли мою ошибку, ускоренно набивали животы так, чтобы к рассвету от третьего покойника не осталось и крошки, и нам удалось – одноглазый бог принял нашу жертву – чуда страшного воскрешения так и не произошло.
Второй шанс
Второго шанса не будет, – так я думал всё свою сознательную жизнь, но оказалось, что моя истина – это моя истина, и она не про всех, а только про меня. Оборону перед нашим участком фронта держали американцы из ЧВК «Белая Роса» и нацики из украинского карбатальона «Шершень». Здесь наша добровольческая бригада вела особо тяжёлые бои, несла потери и под нажимом превосходящих сил противника медленно ползла назад, на восток.
Нас было три друга, три брата, три идеологических солдата нашего Русского Мира. Вместе боролись с заразой гнилой чумы предательского либерализма в мирное время, а когда началась война, вместе пошли добровольцами на фронт, записавшись в добровольческую бригаду Прохора Маслова «Жизнь». Два месяца боёв – два месяца отступления. Запад всей мощью совей военной машины навалился на нас, используя в качестве тарана формирования украинских националистов и отмороженных наёмников, со всего чёрного света прилетевших на запах русской крови, как трупные мухи – на мясо.
Половину нашей бригады выкосило под корень: кто пропал без вести, уйдя в разведку за линию фронта, кто погиб в контрактах и рейдах. Опытных разведчиков у нас не осталось. Командиры бригады не знали ни сил противника, ни его точного местоположения, ни его замыслов, а без этих данных мы были обречены на гибель. Враг готовил масштабное наступление – это было ясно, – но вот где он готовил удар? – это предстояло выяснить, чтобы подготовить ему достойную встречу. Срочно требовалось раздобыть данные о противнике, а лучше – захватить языка из старших офицеров. Пришлось нашему прославленному командиру, Маслову, кинуть клич. Пойти в разведку откликнулось одиннадцать человек, из которых сформировали три группы: две – по четыре человека, и одна (наша) – три бойца. Я с друзьями моими знали на что шли. Дима Барсуков наш интеллектуал, с двумя высшими образованиями, оставивший, ради победы над нечестью, дома семью – жену, двоих ребятишек, старушку мать, – боец хоть и не опытный, но злой, сильный духом, поэтому мою инициативу поддержал, присоединился ко мне, вызвался в добровольцы. Саша Пришвин, наш силач, пулемётчик, отслуживший срочную в ВМС, в разведку пошёл легко, не то чтобы с радостью, но от нас отставать не хотел, хоть и боялся – я по глазам видел, но это ничего, бояться на войне – это нормально, это обыкновенно. Встречались мне на фронте разные, бывали и храбрецы, которые не боялись нечего, но таких можно было по пальцам одной руки перечесть, в большинстве своём боялись все, сама жизнь в постоянном напряжении, в постоянном ожидании пули, осколка, крови и боли, научила их преодолевать себя. Мы пока как новички, обстрелянные, но всё же не ветераны, с преодолением справлялись с трудом. Я вот, например, за восемь недель, с конца июля по конец сентября, потерял двенадцать килограмм, и не потому что кормили плохо, а из-за постоянного, непреходящего страха, поэтому-то я, Степан Боровик, и в разведку пойти вызвался, чтобы страх свой задавить, приучить, обуздать и поехать на нём, как на огненном коне, хоть в пекло, хоть в рай.
Линию фронта мы миновали успешно, прошли как нож масло, на адреналине двинули вперёд, в тыл амеров, а там, в одном придорожном леске мы угодили в ловушку. Нас обложили со всех сторон и при желании могли ликвидировать за несколько секунд, но, дав пару очередей, обозначив наше положение, предложили сдаться. Вести бой, отстреливаться, не видя противника, мы, конечно, могли, но на долго бы нас не хватило. Умереть всегда успеем. Мы сдались. Знай, что будет дальше, я бы лучше себя подорвал гранатой.
Пленили нас бандеровцы из когорты оголтелых – уголовники и мразь, не знающая пощады к пленным и раненным, испытывающая особое удовльствие от мучений жертвы, – карбат «Украина». Не солдаты – подонки. Наверняка среди них нашлись бы и те, кто от мук русских солдат себе в штаны кончал. Пока нас два часа везли в кузове бронированного грузовика нас так обработали, что когда мы прибыли на их базу, покинуть кузов мы самостоятельно не могли. За ноги нас выволокли и потащили куда-то. Я только успел увидеть кусок хмурого, грязного, серого неба, как пред глазами мелькнула кирпичная кладка и острый электрический свет ударил по зрачкам. Я зажмурился, мне что-то сказал на суржике кто-то из тащивших меня сволочей, а потом ударил сапогом в висок. Я отключился.
В закутке каменного мешка нашей камеры не было ничего, кроме золы и песка у противоположной железной двери-стенки. Ни туалета, ни крана, ничего. Мы для них не люди – москальское мясо, а они для нас – рогатые свиньи. Хорошо, что нас, всех троих, держали вместе, мы хоть как-то могли друг друга приободрить. На целые сутки нас враги оставили в покое. Не забыли – нет, они нас мариновали в собственном страхе за своё будущее, как мясо для шашлыка в уксусе. Лично мне разговаривать не хотелось, а вот Саша не выдержал, решил отвлечь себя от чёрных мыслей беседой.
– Слышь, Стёпа?
– Что?
– Как думаешь, нас пытать будут?
– Да.
– Так мы же ничего такого не знаем.
– С паршивой овцы хоть шерсти клок. Судя по тому, как нас сюда везли, им на твои знания плевать, они удовльствие от другого получают.
– Блять. Лучше бы расстреляли… Я боли боюсь.
– А кто её, родимой, не боится. Думай про предстоящее тебе как о неизбежной проверке.
– Да, проверке… Не хочу.
– Братцы, извините, но я больше не могу терпеть, – вклинился в разговор Дима. До этого он сидел, сжавшись в комок, морщился, и вот не утерпел.
– Что, Дима, что ты не можешь терпеть?
– Я в туалет хочу.
– Так постучи им, может, отведут, – предложил Саша.
– Не думаю, но попробовать можно, – сказал я. – Поспроси их.
Дима, подойдя к двери постучал, ему не ответили, тогда он постучал сильнее и из-за двери донеслось:
– Руки тебе переломать, чи що?
– Мне в туалет надо.
– Будешь шуметь, пристрелю, сука, – пообещали из-за двери и послышались шаги – наш надзиратель, или кто он там, ушёл.
– Ребята, что делать? – обратился к нам Дима.
– Да вон пластиковая бутылка, давай в неё, – Саша показал пальцем на помятую, грязную пятилитровую бутылку, лежавшую в углу, где валялся всякий мусор.
– Мне по-большому надо, – объяснил Дима.
– Ну что делать, делай в золе ямку и туда, – решил я. – Давай делай свои дела, мы отвернёмся.
В дальнейшем мы все так делали, а мочились в бутылку.
На первый допрос нас гнали пинками шестеро охранников бандеровцев, а мы бодро хромали, опухшие и разбитые ещё со вчера, повинуясь окрику и сапогу. Одетые в натовскую форму, с автоматами иностранного производства, с засученными рукавами, на предплечья татуировки нацистского и сатанинского содержания – немецкие кресты, профиль Бендеры у двоих, анфас Гитлера – у троих, три шестёрки, черти, ножи и незнакомые мне призывы на латинице и аббревиатуры.
Затолкали нас в ярко освещённую комнату, где нас ждали три палача, в резиновых фартуках, перчатках, хирургических масках. Меня усадили в зубоврачебное кресло, обездвижили пластиковыми наручниками – обечайками, а Диму с Сашей уложили на столы, предназначенные для хирургических операций, перетянули ремнями. Хорошо оборудованная камера пыток – вот где мы оказались. На выкрашенных белой краской стенах, видимо для устрашения, развесили цепи, топоры, тесаки; около стеклянных шкафов, заполненных банками с химикатами, стояли тележки с подносами, на которых лежали, сверкая хромом, инструменты экстремального болепричинения – щипцы, скальпели, свёрла, какие-то невообразимые расширители, иглы.
Кресло моё стояло в левой стороне камеры, а два стола, к которым привязали моих товарищей, – с правой стороны. Для начала нас крепко избили. Тот, кто достался мне, зажал в кулаке что-то продолговатое, железное и, ни о чём не спрашивая, принялся ссадить по рёбрам. Насобачился палач на своей работе, бил так, что в глазах темнело, каждый удар прорезал до позвоночника, особенно меня потряс первый, который он ввинтил мне в правый бок – не успел я напрячь мускулы, а он выстрелил, так вмазал, что я подумал, он меня ножом в печень. И хочется из себя боль выкашлять, но и дышать-то больно, а не то что кашлять. Глаза на лоб, слёзы брызжут, сквозь сжатые зубы текут слюни. Палач бьёт меня сосредоточённо, выбивая стоны, а слышу я короткие сдавленные вскрики – это мои товарищи, их тоже обрабатывают, размягчают для допроса.
Отбив орочье мясо (нас они, чудаки, орками называли), нам стали задавать стандартные вопросы: «Имена? Название части? Расположение? Состав? Расположение штаба? Вооружение?». Это не шутки, от наших ответов зависели жизни наших товарищей – это я хорошо понимал, назови я, например, где находится штаб, так по нему сразу же ракетой вдарят, поэтому я молчал, харкал кровью, терпел побои и молчал. Дима и Саша тоже не подкачали, держались, своих не сдали. Два часа, два века, допроса прошли, и нас отвели в камеру, а напоследок один из палачей, старший из них, пообещал:
– Будете и дальше молчать на органы пустим.
Оказалось, что в первый раз не пытали, а гладили – предварительные ласки. Вечером нас погнали в пыточную опять – но теперь нас сопровождали не шестеро, а всего двое, а значит, и пинали нас в три раза меньше. Ну здесь с нами уж церемониться не стали, в ход пошли инструменты. Я не видел, что там демоны вытворяли с Димой и Сашей – они были закрыты от меня спинами их мучителей, – я только видел, как их ноги дёргаются, да и мне, если честно, было уже не до чего, когда меня, для начала, взбодрили током. Оголённые провода прямо от розетки да мне на руки, на ноги, на грудь, в пах. Электричество меня хватало, грызло, выжигало все мысли, заменяло собой мир. Меня так резко забирала в себя искра, что я откусил себе кончик языка… Отпустило. Сквозь шум в ушах, сквозь треск и вой, я услышал:
– Говорить будешь, мразь?
Это мне, это я «мразь». Я открыл рот, надул слюнявый пузырь и отрицательно покачал головой. Игры с током для меня закончились, началась пытка сталью. Мой палач с лицом безумного арлекина – свою маску он снял, чтобы дышать было легче, тяжелая это работа – людей пытать, – подкатил к креслу тележку, взял длинную иглу на пластмассовой ручке и, показав её мне, приблизив к самым глазам так, что я за своё зрение испугался, вонзил мне её в колено – попал куда-то в сустав. Крика я сдержать не мог, это такая острая стреляющая боль, что если молчать, то разрыв сердца обеспечен. Садист впихнул мне иглу в сочленение хрящей и не спешил вынимать, а поворачивал её, елозил, расшатывал сустав. Я так вопил и раскачивал кресло, что казалось вот-вот и вырву его с железным корнем из бетонного поля – и не вырвал, вырвало меня – вонючей горечью, чёрной желчью.
– Говори, сука е*аная, твоё имя? Какая часть, часть какая? Где твой штаб? – орал мне палач в ухо, надрывался и продолжал колоть.
Потом мне что-то вкололи и стало совсем нехорошо: накатывало асфальтовым катком на сознание, плющило, выдавливало душевный ливер, так невозможно, что если бы были свободны руки, то сразу в петлю. Мне продолжали задавать одни и те же вопросы, но не мои ответы их интересовали, а мои муки – нормальные люди таким паскудным ремеслом заниматься не станут. Снимали с кресла меня бандеровцы вдвоём – мой палач позвал охранника, – стоять на ногах я не мог, и никакие пинки не могли меня заставить идти до камеры своим ходом. Я был как варёный, и вот когда меня отстёгивали с кресла, а потом стаскивали, вот тут и выпал мне шанс. Я, когда меня пытались первый раз вздёрнуть, поставить на ноги, приподнялся и завалился вперёд и на бок, попал пятернёй в тележку, ну и упал лицом вперёд. Мне никак нельзя было терять сознание, потеряй я его и всё – неизбежная мучительная смерть. Пришлось терпеть то, что терпеть было невозможно, мной вытерли весь коридор от пыточной и до камеры. И только когда меня кинули в душную тесноту тюрьмы, я отключился. Своего я добился.
Моего пробуждения ждали плохие новости – ребята не выдержали пытки. Саша и Дима рассказали всё, о чём знали. Первым пытки огнём не выдержал Саша, а за ним, последовав его примеру, заговорил и Дима.
– Плохо, парни, – сказал я, когда узнал о их слабости.
– А ты, что же, ничего не сказал? – спросил Саша.
– Пока ничего, эхе-хе, – я, кряхтя, встал – левая нога почти не гнулась, колено опухло. – Я ведь ни какой-то там герой бесстрашный, просто помнил, что мои слова могут убить… убить наших, русских мужиков, понимаете?
– Да они дислокацию, наверняка, уже сменили, – предположил Дима. Смотреть на него было страшно: лицо синее, опухло, глаза щёлочки, на трех пальцах правой руки не хватает ногтей, а мясо сочится розово-прозрачной сукровицей.
– А если не сменили? Двое суток прошло всего. Может быть, они нас ждут ещё.
– Ну это навряд ли. Мы на связь-то не выходили, – сказал Дима.
– Нас уже списали, – поддакнул Саша.
– У-у, парни, так мы далеко зайдём. – Если сейчас их не одёрнуть, то, действительно, договориться они могут до чего угодно, свою слабость оправдывая, а от неё, этой слабости проклятой, до предательства всего один шаг. – Думаю, кончат нас при любом раскладе. Пытать будут пока не сдохнем; что им не расскажи, всё будет мало. Пленные им сейчас ни к чему, они наступают, до Москвы 200 километров, если только в подручные к ним не пойти.
– Ты что, с ума сошёл? – возмутился Дима.
– Да, друг, ты уж чего-то не того, – обиженно, как малый ребёнок, проканючил Саша.
Вот этого мне было и нужно, они маленько разозлились, теперь готовы слушать.
– Значит так, братья, обо всём этом мы поговорим позже, когда выберемся отсюда, а то что мы можем сбежать, я не сомневаюсь.
– Что?
– Как?
– Спокойно. Слушайте…
Третий раз нас повели на допрос, должно быть, под утро. И когда эти палачи отдыхали-то сами? Непонятно. Хотя, судя по зрачкам того, кто меня пытал, у него не просто не все дома, он увлекался наркотическими стимуляторами. В этот раз в пыточную нас вёл всего один сонный бандеровец, совсем молодой, видно, его ветераны наградили повинностью вести нас на пытку из воспитательных соображений. Он злился, что ему не дали покемарить как следует, и отыгрывался на нас, тыча прикладом между лопаток, по затылкам, отвешивая пинки. Мы старались, не тормозили, чуть ли не бегом бежали к нашей боли, но не из-за его ударов, а скорее из предвкушения.
Нас привязали: меня к креслу, ребят к столам. Палачи загремели инструментами, стало неуютно, пробил озноб. Лучше смерть. Я знаю, были люди, которые терпели пытки неделями, – глыбы, а не люди, до них нам как до луны – тянуться можно – достать нельзя. Когда палачи, вооружившись щипцами и свёрлами, пошли на нас, прозвучал неестественно высокий крик:
– Стойте! Не надо этого, всё расскажу, спрашивайте, – это Саша не выдержал.