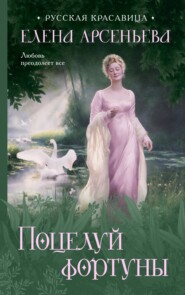скачать книгу бесплатно
Более того: отвратителен был Лелуп и своим сотоварищам, даже тем, с кем вместе отправлялся мародерствовать или обирал трупы замерзших солдат. Везде его встречали презрительной кличкой «московский купец», потому что он увел с собой из Москвы маленький фургончик, куда успел запасти галет, мешок муки, более трехсот бутылок вина, рома и водки, десять фунтов чаю и столько же кофе, под сто фунтов сахару и шоколаду, большой запас свечей… Весь этот запас должен был в продолжение нескольких месяцев питать тело Лелупа, а также давать ему возможность успешно торговать.
Кроме всего, он раздобыл себе множество русских мехов, да вот незадача – через несколько дней отступления русский снаряд уничтожил «склад» Лелупа, и теперь весь его припас умещался в двух вьючных мешках; однако в условиях отступления и это было настоящее сокровище, позволявшее ему диктовать свои законы на привалах и даже время от времени покупать себе женщин – за кусок хлеба, за возможность просто согреться у костра. Анжель случайно узнала, что была четвертой в этом походном гареме, однако все ее предшественницы умерли, не снеся то ли тягот пути, то ли грубости Лелупа, то ли его неизбывной ненависти ко всему миру, сквозившей в каждом его движении, слове, поступке. Анжель чувствовала, что вся гнусность натуры Лелупа ею еще не познана, что самое страшное еще впереди… Так оно и произошло.
* * *
День с утра до полудня был ясный и даже теплый, однако истинный лик русской зимы проглядывался временами из-за набегавших туч, и достаточно было одного сильного порыва ветра, чтобы он явил себя. Внезапно разыгрался буран. Вихри снежные метались по нивам и лугам, качая вершины деревьев, да так, что столетние великаны стонали человеческими голосами, а их ветки с треском обламывались и опадали в снег. Анжель не могла вспомнить такого волнения природы! Крутясь и бушуя, метель охватывала леса и дубравы, оглашая их гулом грозным и страшным, в котором слышалось победительное торжество.
Многие сходили с дороги (вскоре отыскать ее сделалось невозможно!), ложились прямо в сугробы, наметенные под деревьями, закутавшись с головою в плащи и шубы, надеясь переждать русский буран, как некогда пережидали аравийские песчаные бури, оказавшись в Египте под предводительством Наполеона. Таким уже не суждено было подняться! Самые упрямые и сильные брели по сугробам, силясь разглядеть за жгучей снеговой завесою хоть подобие человеческого жилья. И вершиною счастья было бы сейчас увидеть блокгауз.
Так как при победоносном наполеоновском марше на всем протяжении от Вильны до Москвы не было пощажено ни одного города, ни села, ни лачужки, то для обеспечения тыла и сообщения армии через каждые двадцать-тридцать верст были устроены этапы: на квадратной площади, огороженной рвом и забором, возводились бараки, то есть блокгаузы. Такой-то блокгауз и высматривал сейчас с надеждою всякий глаз, но увы – в снежной круговерти ничего не разглядеть.
Бредущая среди небольшой (человек пять) группки сотоварищей и прихлебателей Лелупа, Анжель все чаще чувствовала под ногами не утоптанный твердый зимник, а мягкие, рыхлые сугробы. Понимала, что они сбились с дороги, да и другие не могли не замечать этого, однако все послушно брели за Лелупом, который, ведя в поводу навьюченного коня, все круче забирал вправо, в дремучую чащобу, в бурелом, словно вознамерился непременно переломать ноги и себе, и всем своим спутникам… и вдруг, словно по волшебству, из метели выступили темные бревенчатые стены, иссеченные снегом, и все наконец увидели то, что давно уже увидели звериные глаза Лелупа, а может быть, почуял его звериный нюх: убежище!
Однако это был не блокгауз. Убежище оказалось русской церквушкою, каких немало пожгли эти люди – ну а если не пожгли огнем, то беспощадно осквернили.
Впрочем, какое все это имело значение для скитальцев, которым сейчас нужно было только одно – укрыться от непогоды?
– Allons, enfants de la patrie![6 - Первая строчка «Марсельезы», гимна французской революции: «Вперед, сыны Отчизны!» (франц.)] – с издевкой в голосе пропел Лелуп и первым вошел в широкие двери, створки которых едва висели на одной петле.
Страха, усталости, печали – как не бывало! Все с наслаждением отряхивали с одежды снег, раскладывали для просушки вещи и уже тащили для растопки доски с намалеванными на них ликами русских святых.
Анжель нервно перебирала пальцами шаль. Она знала, что эти доски называются иконы, что русские поклоняются им, и испытывала какое-то странное, тревожное сердцебиение, когда смотрела на них. Она знала: эти диковинные доски нельзя жечь! Русскому Богу, который еще властен в этих стенах, это вряд ли придется по сердцу!
Впрочем, Богу тут уже не оставалось места. Следы на полу и на стенах, общая картина человеческой мерзопакостности ясно указывала, что здесь ставили лошадей, забивали птицу и скотину, извергали нечистоты… Казалось, нельзя найти не загаженного уголка, и Анжель с тоской в глазах бродила по церквушке, ощущая страшную тяжесть на сердце и мысленно прося у кого-то прощения.
Вдруг на закопченной стене, словно дружеский взор, мелькнуло светлое пятно. Анжель приблизилась и увидела косо прибитую иконку с изображением молодой женщины в серебристо-белом одеянии с младенцем на руках. Темные очи женщины были печальны, глаза ребенка не по-детски мудры и суровы, и Анжель вдруг безотчетно подалась вперед, прижалась губами к ручке младенца и, только отстранившись и осенив себя троекратным крестом, удивилась своему поступку. Вдобавок крестилась она справа налево, а пальцы ее руки были сложены щепотью, но отнюдь не в два перста, как крестились французы. Верно, это память о русском воспитании, подумала Анжель и, поклонившись иконе, опасливо оглянулась и неприметно прикрыла ее грязным лоскутом, валявшимся на полу. Ей хотелось сейчас во что бы то ни стало спасти от огня светлый лик русской Богоматери. Страстно хотелось взять ее с собою, но Анжель не решилась: тогда бы она уподобилась этим скотам, с которыми вынуждена идти… Нет, Бог даст, останется икона не замеченной никем и будет здесь висеть в покое и тишине до лучших времен!
Чтобы не привлекать внимания к этому месту, Анжель прошла вперед вдоль стены. Какой-то узор был вырезан прямо на дереве. Анжель не вдруг распознала, что это буквы, и с изумившей ее саму легкостью вдруг прочла: «Приидите ко мне… и аз успокою вы…» Да, верно, это тоже гудит забытая память, если слова чужого языка понятны Анжель, но эти слова понял бы сердцем кто угодно, человек любой нации! Анжель простерла руки к надписи, будто к огню в стужу, умоляя неведомого Всевышнего, коему поклоняются русские, простить ее за все, что содеяно на этой земле, в этой стране, в храме сем…
– Mon Deiu, – прошептала она и добавила непослушными губами: – Гос-по-ди!..
Короткий вздох прервал ее мольбу. Казалось, кто-то перевел дыхание, и Анжель, встрепенувшись, успела увидеть, как темная фигура проворно отпрянула в тень, слилась со стеной, сделалась неразличимой, однако и из тьмы достигал лица Анжель жгучий взор незнакомца. Она не сдержала короткого вскрика, но тут же, спохватившись, зажала рот ладонью. Поздно – Лелуп уже оказался рядом.
Он видел в темноте, подобно дикому зверю, и ринулся вперед, в непроницаемую тьму. Послышались звуки потасовки, набежали на шум другие французы, и Лелуп вскоре появился в свете костра, утирая окровавленные губы и чудовищно ругаясь, а за ним его сотоварищи волокли какую-то высокую фигуру в черной рясе. От нее остались сплошные лохмотья, сквозь которые проглядывало поджарое, мускулистое тело. Однако, не замечая своей полунаготы, монах старательно прикрывал капюшоном лицо.
– А ну, чего прячешься? Покажи-ка свою рожу! – рявкнул Лелуп, однако Туше схватил его за руку:
– Черт с ним! Может, у него обет скрывать лицо? Помните, в Испании мы сожгли монастырь, в котором все монахи дали обет молчания на всю жизнь? Даже друг с другом не разговаривали, объяснялись знаками. Ну уж и орали они, когда горела их обитель!
– Ты предлагаешь его сжечь? – усмехнулся Лелуп, и Анжель передернуло.
– Нет, – вкрадчиво протянул Туше. – Я предлагаю взглянуть на его крест. Я знавал в Москве двух-трех русских толстобрюхих священников, у которых кресты были украшены очень и очень недурными камешками.
– Видать, религия – твой конек. Надо полагать, ты не замедлил забрать эти кресты? – Лелуп проворно обшарил рваную рясу, но не нашел ничего, кроме простенького, потемневшего от времени серебряного крестика, который отшвырнул с величайшим презрением, но Анжель успела заметить, что монах торопливо прижал крест к губам, прежде чем снова надеть на себя.
– Осечка! – хмыкнул Лелуп. – Ну-ка, Туше, напряги мозги, что ты еще знаешь о монахах?
Туше всей пятерней поскреб грязную, засаленную голову.
– Ну что тебе сказать? – произнес он раздумчиво. – Помнится, одному священнику мы спалили слишком густую бороду, чтобы лучше расслышать, где он прятал церковные сокровища.
Глаза Лелупа сверкнули.
– А вот мне кажется, что этому придурку мешает говорить капюшон на его башке. Что, если снять с него рясу, но, чтобы рук не пачкать, зажечь эту дерюгу?
Анжель тихо ахнула, и быстрый, как молния, взгляд из-под капюшона пронзил ее. Сердце забилось в горле, да так, что она с трудом могла дышать, с трудом разомкнула губы, чтобы вымолвить:
– У-мо-ляю вас…
Сабля вывалилась из рук Лелупа, и он обернулся к Анжель с выражением величайшего изумления на своем заросшем кабаньем лице.
– Что я слышу?! Ты наконец-то разинула рот, девка?
– Да брось ты, Лелуп! – захохотал Туше, и к нему присоединились остальные французы. – Не далее вчерашнего вечера я слышал, как твоя мадемуазель орала во всю мочь, – вот только не понял, от радости или от страха.
– А мне что за дело ее радость? Быть с ней – все равно что в сугробе лежать, так эта сучка холодна. Ну, конечно, я помял ей бока, чтобы хоть ноги раздвинула пошире!
Анжель на мгновение зажмурилась. Почему-то ей было невыносимо стыдно перед монахом. Его взгляд жег ее как огонь, хотя она даже не могла увидеть его лица.
А в глазах Туше блеснула робкая надежда.
– Если она тебе уже надоела, я бы не прочь попробовать свои силы… авось у нее будет что вспомнить!
– Да и на меня дамы никогда не обижались, – подал голос Толстый Жан, а ему вторили еще трое.
Анжель поднесла руку ко лбу, силясь вспомнить что-то. А ведь нечто подобное уже случалось с ней… неприкрытая похоть в глазах мужчин, насмешки – и полная безысходность, полная беспомощность!
Голос Лелупа вернул ее к действительности.
– Ты, кажется, упоминал о крестах с красивыми камушками? – спросил он с самым безразличным видом.
Однако Туше не обмануло это напускное равнодушие.
– Ну ты хватил, Лелуп! Не высока ли цена за девку? Мне ведь она нужна только на разочек!
– Покажи крест! – не терпящим возражений тоном сказал Лелуп, и Туше, мученически закатив глаза, принялся шарить под одеждой, с трудом продираясь сквозь надетые на него женские шубы и салопы.
Наконец что-то блеснуло в его грязной руке, и этот блеск словно высек искру в прищуренных глазах Лелупа.
– Ты отдашь мне крест, – изрек он таким голосом, что бедный Туше поперхнулся. – Но девку возьмешь не один раз, а… сколько тут камешков, пять? Ну вот, пять раз. Ладно уж, шестой – за сам крест.
– Но крест-то с капелькой наверху! – начал торговаться заметно повеселевший Туше. – Семь раз.
– Черт с тобой, – отмахнулся Лелуп. – От нее не убудет. И еще вот что, Туше. Если тебе удастся растопить этот сугроб, то получишь награду: восьмой раз!
– Думаю, что заработаю и девятый, – с самодовольным видом изрек Туше, но тут вмешался Толстый Жан:
– Как хочешь, но это не по-товарищески, Лелуп! Если бы мы знали, что ты просто хочешь заработать на своей девке, то смогли бы кое-что предложить. Я ведь ушел из Москвы не с пустыми руками… да и другие тоже!
– Разумеется! – поддержали его остальные. – Мы заплатим тебе, Лелуп!
– Теперь для меня ты и свободного вечерка не отыщешь? – Лелуп грубо облапил Анжель. – Между этой толпой и не втиснешься! Впрочем, я еще посмотрю, что вы там предложите. А ну, выворачивайте карманы!
И тотчас же воспламенились французские натуры, способные возбудиться от малейшего намека на блуд. Мужчины, одетые подобно Туше, принялись торопливо рыться в своих шубах-салопах, а Туше по-хозяйски схватил Анжель за руку и потянул к себе.
– Зачем ждать вечера? Пойдем-ка, моя прелесть. Тебе кто-нибудь говорил, какие у тебя чудные глазки? Они давно зажгли огонь в моем сердце. А твои губки… о, как давно я мечтал их поцеловать! Крошка моя, да после этого поцелуя ты забудешь обо всем на свете.
– Крошка?! – захохотал Лелуп. – Да она выше тебя на голову, эта крошка!
Как и все мужчины маленького роста, Туше терпеть не мог подобных замечаний и, непременно решив помериться с Лелупом своим достоинством, спустил штаны. Его примеру последовали и другие.
Анжель с мольбой в глазах глянула в угол, где стоял монах, чая хоть какой-то защиты, хоть слова, которое вразумило бы этих скотов, однако ужаснулась, заметив, что там никого нет. Монах втихомолку скрылся!
Не думая, не рассуждая, она бросилась было к двери, однако, преграждая ей путь, мимо просвистела пуля, едва не задевшая Анжель. Она пронзительно вскрикнула от страха.
Мужчины, стоявшие со спущенными штанами, на миг остолбенели, однако свист пуль не прекращался, так что солдаты вмиг пришли в себя и, кое-как прикрыв срам, бросились к своему оружию, сваленному в кучу.
– Les cosaques! Казаки! – кричали они.
* * *
Казаки! Те самые, над которыми когда-то, при своем наступлении, посмеивались французы, на которых когда-то, не считая их числа, весело ходили в атаку, ныне наводили ужас на всю наполеоновскую армию, и число их при содействии русских крестьян значительно увеличилось. Вот и теперь Лелуп, едва бросив взгляд в узкое окошко, закричал:
– Не казаки, а партизаны!
– Черт ли, дьявол – все одно! – отозвался Туше.
Ружья, как назло, оказались у всех незаряженными, и, пока французы высыпали порох в патроны, закладывали пули и пыжи, шомполом прочно забивали их, вворачивали в затравку пистоны, надевали на них колпачки – словом, пока проделывалась вся эта мучительная процедура, предшествующая выстрелу из ружья, нападающие успели ворваться в церковь.
Анжель смотрела на них как завороженная, однако не испытала страха. Большинство партизан были верхом на маленьких лошадках, в бараньих шубах и черных барашковых шапках. Вооружение их в основном составляли пики или просто колья с железными остриями на конце. Ружей имелось немного, зато в пистолетах недостатка не было, ибо стрельба со стороны нападавших не прекращалась, и, к тому времени как русские ворвались в церковь, четверо французов были убиты.
Раненый Туше покорно поднял руки; он смотрел на партизан с таким ужасом, словно это были мертвецы, восставшие из могил. Высокий казак походя полоснул по его шее саблей – Туше завалился на бок, захрипел.
Лелуп, которого держали трое, вдруг рванулся с такой силой, что русские посыпались в разные стороны. Француз кинулся к дверям и высадил одну из створок могучим плечом… Русские бросились следом, но один из них, доселе стоявший в стороне, остановил их властным движением руки:
– Да пускай бежит. Далеко не уйдет, сдохнет в сугробе. Мы сюда за другим пришли, забыли?
Анжель вслушивалась в русские слова, с изумлением сообразив, что все понимает. Вот чудеса играет с нею память! Но еще большим потрясением было для нее то, что голос, эти слова произносивший, был женский.
Да эти казаки – женщины! Возможно ли?!
Она недоверчиво оглянулась и похолодела, встретив устремленный на нее взор, столь темный и недобрый, что Анжель ужаснулась. Ни на какое мягкосердечие надеяться не стоит: ведь одна из этих русских амазонок только что мимоходом перерезала горло Туше и вот теперь устремила взгляд убийцы на Анжель.
Русская медленно приближалась. Уже ясно было видно ее точеное лицо с высокими скулами, маленьким круглым и твердым подбородком, крепко стиснутыми яркими губами. Анжель уставилась в это злое и прекрасное лицо, в черные чуть раскосые глаза под сросшимися бровями, придававшими взору молодой женщины особенную, дикую страстность. И вот чудеса: Анжель почему-то ощутила, что русская ненавидит в ней не просто чужеземку из вражеского племени – русская ненавидела именно ее, Анжель!
– Варвара! Стой! – вырвал ее из оцепенения чей-то крик. – В своем ли ты уме? Да ведь это, наверное, она!
Анжель медленно повела глазами, словно еще не очнулась от некоего зачарованного сна, и увидела высокую и плотную женщину. Под клетчатым платком виднелись гладко причесанные русые с проседью волосы, ресницы бросали тень на смугло-румяные тугие щеки. Округлые брови были осуждающе нахмурены, а взгляд темно-серых глаз сурово устремлен на злую красавицу.
Варвара остановилась, но во всей ее осанке сквозило с трудом сдерживаемое непокорство.
– Да что ты, Марфа Тимофеевна! Да чтоб за такое отребье наш барин столько радел?
Она окинула Анжель долгим, цепким взглядом, и в этом взгляде были не только ненависть, но и нескрываемое презрение. Анжель словно бы увидела себя со стороны: свалявшиеся, нечесаные волосы, одежда столь грязная, столь ужасная, что смахивала на маскарадный костюм. Право же, в ней даже нелегко распознать женщину! Отребье, так, кажется, назвала ее Варвара? Вот уж воистину!
– Да ты не бойся, – властно отстранив с дороги Варвару и мимоходом отобрав у нее саблю, сказала Марфа Тимофеевна пленнице тем неестественно громким голосом, каким взрослые иногда говорят с детьми. – Ты должна пойти с нами. Но не бойся – вреда тебе не будет. Понимаешь?
Анжель робко кивнула.
– Понимает! – обрадовалась Марфа Тимофеевна, оглядываясь на своих подруг, которые столпились вокруг и с жадностью внимали происходившему с такой гордостью, словно Анжель была ее воспитанницей. – Понимает, знать, по-нашему! А говорить умеешь? Гово-рить? – прокричала она по складам, тыча пальцами себе в рот и с надеждой вглядываясь в напряженное лицо Анжель, которая прикусила губу с досады, что хоть и понимает каждое слово чужой речи, но сама ни звука ее воспроизвести не может.
– Не глухая, да немая! – злорадно усмехнулась Варвара, вновь обжигая пленницу ненавидящим взглядом.
– Никшни! – замахнулась на нее Марфа Тимофеевна даже не сердито, а небрежно, будто на расшалившуюся кошку. – А ты, девонька, пойдем, пойдем со мною! – Она отступила к выходу, маня Анжель раскрытой ладонью, и та, нипочем не желая оставаться в окружении враждебно-молчаливых женщин, под прицелом ненавидящих Варвариных глаз покорно пошла за Марфой Тимофеевной из церкви и на дворе села в розвальни, полные хрустящего, благоуханного сена…
Сани тронулись; от резкого их движения Анжель невольно запрокинулась навзничь, но больше не сделала попытки подняться – так и лежала, безвольно глядя в сырое и серое, но уже бесснежное небо, нависшее над лесом, лежала, не в силах думать ни о чем-то, ни даже беспокоиться о будущем.
Глава 3
Барские забавы
– Ох и закудлатилась ты! Колтун, ну чистый колтун! – в который уже раз с отчаянием воскликнула Марфа Тимофеевна, продираясь гребнем сквозь грязные комья, в которые превратились давно не чесанные волосы Анжель. Даже и смазанные маслом, они были труднопроходимы для частого гребня, и поэтому Марфа Тимофеевна беспрестанно ворчала, а из глаз Анжель неостановимо струились слезы.
Варвара, сидевшая поодаль, с отвращением смотрела на масляное месиво, облепившее голову Анжель, и медленно, старательно расплетала свою толстую – в руку толщиной! – и длинную – до самых подколенок! – косу, которой могла позавидовать любая женщина; но когда черный, цвета воронова крыла, темно-блестящий водопад закрыл ее фигуру, Анжель не ощутила зависти, ибо понимала: Варвара все делает напоказ, явно красуясь. «За что она меня так ненавидит?» – опять удивилась Анжель и грустно усмехнулась: этот вопрос она задает в последнее время слишком часто!
Наконец Марфа Тимофеевна со вздохом облегчения отложила гребень, в котором теперь не хватало нескольких зубьев, и велела Анжель следовать за нею. Тут же поднялась и Варвара, которой, как поняла Анжель, была предназначена роль ее стража, и, хоть у нее не было никакого оружия, только сумасшедший рискнул бы бежать от такого стража: можно было не сомневаться, что и голыми руками эта амазонка справится даже и с мужчиною, не говоря уже об ослабевшей Анжель.
Они все были только в холщовых рубашках (лохмотья Анжель давно уже отправились в печку). Марфа Тимофеевна бестрепетно ступила из холодных сеней босыми ногами прямо на снег, на тропку, ведущую к приземистому бревенчатому строению, над которым поднимался дымок. Анжель в ужасе воззрилась на обледенелую тропку, даже попятилась, но тут Варвара, замыкавшая шествие, так пихнула ее вперед, что Анжель, заскользив, едва не сбила с ног Марфу Тимофеевну. Та оглянулась, мгновенно оценила происходящее и пропустила Анжель вперед, сурово погрозив Варваре маленьким, но увесистым своим кулачком. Та лишь хмыкнула в ответ, но больше не трогала Анжель.
Они прошли еще немного, и вот уже перед ними открылась низенькая дверка, из которой дохнуло обжигающей влагой. Баня!
Прошло немалое время, прежде чем Анжель выплыла из облака душистого пара и осознала, что полулежит на мокрой лавке и все тело у нее горит – избитое, исхлестанное веником, натертое мочалкою, примятое умелыми руками Марфы Тимофеевны; а волосы, аж скрипящие от чистоты, тщательно расчесанные, казались невесомыми. Да и все тело Анжель, чудилось, парит над этой лавкою, вовсе не касаясь ее.
– Жива, девонька? – вернула ее к жизни ласковая усмешка Марфы Тимофеевны, которая поднесла к ее губам деревянный жбан с квасом.
Анжель пила медленно, долгими тягучими глотками. Блаженная усталость клонила ее в сон, однако Марфа Тимофеевна властной рукой заставила подняться.
– Пошли отсюда, не то угоришь. – Она неопределенно покрутила пальцем над головой, но Анжель и так поняла, что имеется в виду; она понимала все больше русских слов, но произнести по-прежнему не могла ничего, за что Варвара пренебрежительно называла ее немкой, немотой и унималась, лишь когда Марфа Тимофеевна шикала на нее.
Анжель тяжело вздохнула, когда поняла, что Варвара не останется в бане, а тоже пойдет с ними.
– Ну что, окунем ее в сугроб? – спросила Варвара с недоброй усмешкою; заметив гневный огонек в глазах Марфы Тимофеевны, досадливо отмахнулась, распахнула дверцу предбанника, вдруг вырвалась из дверей и, как была, голая, распаренная, ринулась в сугробы, тяжелым белым сном спавшие вдоль узкой тропы.
Анжель вскрикнула. Ее затрясла неудержимая дрожь от одного лишь прикосновения седого морозного клуба, ворвавшегося в предбанник, а Варвара… да ведь она умрет сейчас, если не выберется из снега!
Варвара, однако, умирать явно не собиралась: снова вбежала в баню, захлопнув за собой дверь, и снег таял, чудилось, даже с шипением, на ее медно-красном, налитом теле. Она была словно выточена из некоего горячего камня, гладкая, сильная, поджарая, мускулистая – истинная амазонка! Рядом с ней Анжель ощущала себя какой-то рыхло-белой немочью, однако, заметив поджатые губы Варвары и ее недобро сверкающие глаза, вдруг поняла, что и та не сводит с нее глаз, разглядывает ее придирчиво ревниво, да и Марфа Тимофеевна, уже успевшая надеть чистую белую рубаху, смотрела на них оценивающе, как бы не зная, кому отдать предпочтение, ибо эти две молодые женщины, такие разные, такие непохожие, в точности как день и ночь, как свет и тьма, были в то же время неуловимо схожи, являя собою редкостные образцы безупречной красоты.
– Что смотришь? – с трудом оторвав взгляд от Анжель, прошипела Варвара, и Марфа Тимофеевна не без ехидства засмеялась: