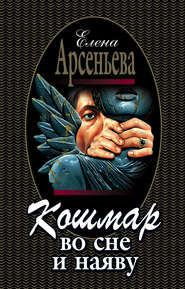скачать книгу бесплатно
– Я знаю, знаю, – давился словами Наиль. – Она здесь, на пятом этаже! Соседка уехала, просила цветы поливать, да? И вот ключи! Там, там она, больше негде!
– А вот это надо выяснить, – с расстановкой произнес Вольт.
Неторопливо поднявшись с кресла, он вытащил из кармана тети Гали связку ключей.
– Пойду посмотрю.
Жестом остановил Наиля:
– Я сам. Не волнуйся, мы найдем общий язык с этой… тварью.
Опустил руку в карман, вытащил пистолет, но тут же спрятал.
– Ой, как девица наша напугалась, а? Ничего, поживи пока. Вот я вернусь… Кстати, какая квартира у той соседки? Не слышу!
Угрожающе пригнулся к Альбине и довольно хохотнул, когда она прохрипела:
– Двадцатая!
– А ты за мной запри дверь, – велел Наилю. – Запри, запри, а то, неровен час, принесет какую-нибудь соседку… за луком или за солью. Стукну по-нашему – откроешь. Если найду, чего ищу, то задержусь, наверное, так что время у тебя есть.
– Можно, да? – обрадовался Наиль.
– А чего ж? Зря ты, что ли, целый день на морозе проторчал? Побалуйся, только без шума. И чтоб к моему возвращению…
– Понял, – кивнул Наиль, выходя вслед за Вольтом в коридор. – Я быстро. Но и ты там особо не задерживайся.
Послышалось щелканье замка, досадливое ворчание Вольта:
– Черт, наворочали тут…
– Сейчас, дай-ка я, – бормотнул Наиль. – Вот, готово!
Альбина приподнялась на локтях. Все плыло перед глазами, в ушах звенело. И вдруг почему-то вспомнилось, как она сказала – там, еще в машине, – Наилю: «Подумаешь, что такого, я каждый вечер одна хожу – и ничего!» А он многозначительно ответил: «Больше не будете!»
Ох, что только ни услышалось ей в этих словах, а на самом-то деле в них таились лишь издевка и угроза: не будешь ходить здесь, потому что я убью тебя сегодня же вечером!
Она затравленно огляделась. Телефонная розетка оторвана – и не заметила, когда они сделали это.
Что-нибудь тяжелое… ударить Наиля, когда вернется. Убить!
Господи, да она ничего не сможет поднять, такая слабость овладела телом. Руки подгибаются…
Вдруг прохладное дуновение коснулось лица.
Окно!
С внезапно вернувшейся силой Альбина вскочила, одним прыжком пересекла комнату. Узкая створка и для кошки тесна, а широкая заделана на зиму!
Вцепилась в шпингалеты, ломая ногти, потом рванула ручку.
Затрещала бумага, которой было заклеено окно, полетели пыльные клочья ваты. Порыв ветра ударил в лицо так, что Альбина задохнулась.
В коридоре грохнула дверь. Сквозняк! Они догадаются!
Не раздумывая, вскарабкалась на подоконник и, согнувшись, шагнула вниз, ничего не различая в морозной стеклянной мгле.
Чудилось, она летит вниз целый век – неуклюжим комом, кричащим от ужаса. Нет – кричало нутро, а рот был забит ветром. Но этот студеный клуб вылетел как пробка вместе с воплем, когда она с силой ухнула на что-то ледяное, как бы сырое, сильно прогнувшееся под тяжестью тела и при этом слегка спружинившее.
Альбина проползла по чему-то скользкому, блескуче-синему.
Боже! Да ведь это тент трейлера, который вечно торчит под окнами! Мужика, которому принадлежит этот трейлер, ненавидел весь дом, потому что он начинал прогревать мотор с пяти утра, еще раньше самых ранних собачников нарушая сладкий предутренний сон. Но если бы не этот трейлер, Альбина угодила бы прямиком на занесенные снегом кусты… как на копья!
Руки и ноги разъезжались, но она все-таки смогла сообразить, где будет лучше спуститься с благословенного тента, и сползла наконец на землю.
Глянула вверх – и странно-далеким показалось полураспахнутое, ярко освещенное окно на четвертом этаже. Однако в следующую минуту оно сделалось опасно-близким, потому что в нем обрисовался темный, широкоплечий силуэт. Мужчина пригнулся, всматриваясь вниз, и Альбине почудилось, будто он глядит ей прямо в глаза.
Рванулась мимо подъездов, среди машин, загромоздивших дорожку, прямо к шоссе. Замороженная, ярко освещенная коробочка наплывала из тьмы. Остановилась рядом с Альбиной, громыхнула дверями, впустила в задымленное, провонявшее бензиновым перегаром нутро.
– Не забывайте компостировать талоны. Проездные предъявляйте пассажирам. На линии контроль. Следующая остановка – магазин «Океан».
Альбина прилипла к заднему стеклу. Нет, никто не бежит сзади по дороге, не сверкает огнями зловеще-белый «Форд».
Она сбежала, сбежала от них!
Огляделась, лихорадочно сбивая ладонями слезы. На передних сиденьях дремлет несколько человек. Автобус, можно сказать, пуст, и никто не обратил внимания на перепуганную пассажирку в сползающих джинсах (при падении отлетела на поясе пуговица и лопнула «молния»), в свитерке с оборванным рукавом и в одних только носках.
Как это сказал Вольт про исчезнувшую раненую? Не могла же, дескать, она босиком, в одной рубахе сбежать по морозу? Ого! Если ей грозило то же, что Альбине, могла и босиком, и по снегу, и по льду, еще как могла!
Озноб ударил внезапно, как враг, и пробрал до самых костей. Альбина скорчилась на сиденье, поджав колени к подбородку.
Ничего. Это ничего, ничего. Только две остановки. Она выдержит, она не замерзнет.
Через две остановки – отделение милиции. И все наконец закончится!
* * *
»Ганнибал – «арап Петра Великого», негр по крови, прадед (по матери) поэта Пушкина. В биографии Ганнибала до сих пор много невыясненного. Сын владетельного князька, Ганнибал родился, вероятно, в 1626 г.; на восьмом году похищен и привезен в Константинополь, откуда в 1705 или 1706 году Савва Рагузинский привез его в подарок Петру I, любившему всякие редкости и курьезы, державшему и прежде «арапов».
И в Брокгаузе с Ефроном все, как и в других словарях: общие места, ничего конкретного ни о племени, ни о названии народа. «Арап» – вот и все дела. Но тогда так называли и арабов, и эфиопов, и кого угодно, тем более – мало кому известных лесных туарегов, иначе – асгаров. Пожалуй, придется поверить на слово. Или не поверить?..
Герман закрыл Брокгауза, нашарил выключатель над головой и, погасив свет, уставился в пронизанное бледным лунным лучом стекло, по которому струились белые разлапистые узоры.
«Побеги морозных растений вверх поднялись – к пущей стуже», – вспомнил он примету, которой его научила тетя Паша. Куда уж пуще! И так завернуло без жалости, за день столбик термометра рухнул от нуля до двадцати двух, а теперь уже к тридцати подбирается.
Натянул на плечи одеяло, поверх другое и свернулся калачиком, пытаясь подавить не утихающий озноб. После того длительного кровопускания его беспрестанно морозит. Да и вообще в том крыле больницы, где живет Герман, холодновато. А каково там бедолаге Абергаму Алесану… и все такое? Впрочем, в его палате должно быть тепло. Герман приказал топить там печи без перерыва, чем заслужил вековечную, пожалуй, ненависть истопника Сергеича, которого он таким образом лишил всей новогодней, рождественской и старо-новогодней сласти – напиться до одурения.
– Не будешь топить постоянно – выгоню вон! – тонким, злым голосом сказал Герман и показал Сергеичу заготовленный заранее приказ: за подписью, между прочим, не своей, а Маркелова, главврача.
При этом он держал бумагу двумя пальцами за край, очень ловко прикрывая число: трехмесячной давности. Тогда, по ранним октябрьским холодам, в больнице воцарилась стынь-стужа, а Сергеич гулял на всю катушку, отмечая наступление знаменитой болдинской осени. Образумила его сестра, узнав, что приказ об увольнении уже подписан и в больнице срочно ищут нового истопника. Что характерно, его почти нашли, и Герман до сих пор жалел, что Маркелов не довел дело до конца: сестра Сергеича, безответная и самоотверженная тетя Паша, уплакала-таки главврача. Хотя… хотя еще неведомо, как сложились бы отношения с новым истопником. Против Сергеича теперь хотя бы есть оружие в виде старого приказа, а если он и возненавидел на всю жизнь этого «хер-р-рурга», оставшегося в праздники в больнице и установившего сущую диктатуру, то вышеназванному на это глубоко плевать.
Главное, чтобы тепло было!
Герман усмехнулся, вспомнив, как вчера плакали от жары стекла в операционной палате. Больной, весь полосатый от повязок, будто зебра, лежал в чем мать родила, и старая ханжа тетя Паша стыдливо отводила взор от его вызывающе торчащего среди бинтов достоинства, которому глубокое беспамятство хозяина как бы даже на пользу пошло.
– Ишь ты, африканский жеребец! – восхитился Сергеич, заглянувший проверить «накал градуса», как он выразился, и вышел, утирая лисьим малахаем мигом взопревшее лицо и добавив крутую рифму к слову «жеребец».
А Герман подумал, что Сергеич, похоже, больше изумлен именно выдающейся оснасткой новогоднего пациента, чем самим фактом его появления в Болдине. Да и тетя Паша видела теперь в незнакомце только послеоперационного больного, которого надо терпеливо выхаживать и ставить на ноги, в чем она была великая мастерица. Сам же Георгий привык к пациенту, пока стоял над столом и орудовал иглами, сшивая рваные раны на этом черном, как антрацит, теле.
Но что было с ними троими, когда, услышав истошный сигнал под окнами, выскочили на крыльцо и увидели габаритные огни «КамАЗа», таявшие в снежной замяти, а на ступеньках – бесчувственное тело, на котором, чудилось, не было живого места!..
Незнакомец был весь покрыт коркой запекшейся крови, вдобавок – обожжен: так им сначала показалось. И только через несколько минут тетя Паша, срезавшая с тела клочья одежды, вдруг уронила ножницы, перекрестилась и воскликнула с ужасом:
– Аггел или чеченец?!
«Чи жид, чи москаль?» – вспомнил Герман анекдот про хохла, к которому дочка привезла мужа на смотрины, и прыснул было. А чего тут смешного? Тетя Паша небось только по телевизору негров и видела, а по телевизору, известно, всякое показывают, даже инопланетян, но это ведь не означает, что они на самом деле существуют!
За стенами больницы выло, било по стеклам, смерчи топотали по крыше, будто туда высаживался десант дьяволов. Ночь выдалась совершенно гоголевская, о такой говорят: «Черт украл месяц»; правда, не рождественская, а новогодняя. В больнице оставалось из всего персонала только трое: Герман – дежурный врач, тетя Паша – дежурная сестра и пьяненький истопник Сергеич, притащившийся ровно в полночь облобызать свою многотерпеливую сеструху, с Новым годом поздравить.
Пациенты и врачи на эту ночь разбрелись по домам, и вместе с боем кремлевских курантов, донесшимся из комнаты отдыха, где стоял телевизор, в сознание Германа ударила пугающая мысль, что операцию этому умирающему, жестоко искалеченному человеку вынужден будет делать он – немедленно и практически один.
Это, конечно, какая-то фантастика, но все врачи и медсестры родом были из ближних и дальних окрестных деревень, а потому теперь их не сыскать. Главврач, он же главный хирург, который, собственно, и должен был бы оперировать (Герману оставалось бы только ассистировать), жил, правда, в Болдине… Однако, точно по уговору со злодейкой-судьбой, он именно вчера, 31 декабря, сломал ногу в собственном дровянике. Герман ему сам же накладывал днем гипс и убеждал не тревожиться. Анестезиолог (рентгенолог по совместительству) опять-таки вчера на последнем рейсовом автобусе умчалась в Арзамас, где жила ее дочь, которую увезли на «скорой» с преждевременными родами.
Герман оказался один. И ждать нельзя: черный человек умирал.
…Он сам давал анестезию, сам и оперировал. Тетя Паша, причитая и молясь, ассистировала, почти не путаясь. А Герман работал, изредка вскидывая голову, когда очередной вихрь с особенным остервенением перебирал стекла в окнах, и вспоминал любимого Булгакова, «Записки юного доктора», про то, как герой в разгар операции бегал к себе в кабинет поглядеть в справочнике, чего дальше делать. Герман бы тоже с удовольствием сбегал, да боялся, что негр за это время помрет.
А потом выяснилось, что кончилась кровь… а дело завершилось тем, что Герман лежал на одном столе, негр, забинтованный с ног до головы, на другом, а их руки, белая и черная, были соединены красной пульсирующей трубочкой, по которой кровь Германа перетекала в чужое, бесчувственное тело.
От усталости и недосыпа кружилась голова, ну и, конечно, резкая и обильная кровопотеря давала себя знать (все-таки сдать пол-литра крови и выпить пол-литра водки – равно головокружительные занятия!). За окном по-прежнему металось, выло и ухало. Тетя Паша, от вечного умерщвления плоти и нынешней усталости белая и полупрозрачная, будто призрак, качалась между ними, вглядываясь то в одно, то в другое лицо, и чувствительно пощипывала Германа, когда он сонно заводил глаза:
– Нельзя спать! Нельзя!
Герман тупо таращился в окно.
– Мчатся тучи, вьются тучи, – начал он бормотать, чтобы хоть как-то разогнать обморочный звон в голове, – невидимкою луна освещает снег летучий; мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле; колокольчик дин-дин-дин… Страшно, страшно… но не боле… средь неведомых равнин…
«Почему это – страшно, но не боле? – спохватился вдруг. – Страшно, страшно поневоле, вот так надо! А, понятно, это уже бред».
Колокольчик в голове делал свой дин-дин-дин все громче и громче. Было страшно, но не боле. А вот спать хотелось отчаянно!
– Хватит, тетя Паша, – пробормотал Герман как мог более внятно, приподнимаясь на локте… или уверяя себя, что приподнимается. – Хватит импортировать русскую кровь!
И осекся.
Серые губы человека, безжизненно простертого на соседнем столе, дрогнули. Сначала с них сорвался хрип, потом какие-то бессвязные курлыкающие звуки, но вот Герман услышал слабенькое бормотание:
– Мчатся тучи, вьются тучи; невидимкою луна освещает снег летучий; мутно небо, ночь мутна…
У Германа зашевелились волосы на голове. Этот хриплый, чуть живой голос повторял с ужасным акцентом те же самые слова, которые он только что нашептывал! Это что же… что же это получается, а? Незнакомый негр, занесенный новогодним ураганом в болдинскую глушь, с русской кровью впитал в себя русские стихи? То есть вместе с потоком красных кровяных телец Герман передал ему свои мысли и чувства?!
«Интересно, как он прочтет дальше: «поневоле» или все-таки «не боле»? – подумал Герман, не в силах решить, перекреститься ему на всякий случай или нет.
– Сил нам нет кружиться доле; колокольчик вдруг умолк; кони стали… «Что там в поле?» – «Кто их знает? Пень иль волк?»
Герман тихо ахнул. Другие слова! Те же стихи, но дальше. Он что, этот негр, читает Пушкина по-русски? Наизусть?!
Ну, бред, конечно. Снежная сумятица нашептала, надула в его бедную головушку бесовское наваждение. Вон клубится за окнами их хоровод, ежесекундно меняя их очертания!
– Бесконечны, безобразны, в лунной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре, – прошептал он, роняя голову на подушку.
– Сколько их! Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?.. – вторил ему глуховатый голос с акцентом, и тетя Паша истово крестила обоих чтецов: белого и черного.
Наутро выяснилось, что ни к бесовщине, ни к бреду ночные происшествия отношения не имели: полуживой, но удивительно живучий негр действительно знал наизусть чуть не всего Пушкина. И по-русски! А едва не погиб он в эту ночь именно потому, что должен был во что бы то ни стало оказаться нынче в Болдине. В месте, связанном с именем своего великого родственника…
Да, да! Великий Бык, Слон Могучий. Первый Леопард Джунглей, Сын Неба и Белой Горы… и так далее и тому подобное, Алесан Сулайя уверял Германа, что происходит из того самого племени лесных туарегов, в некоторых источниках более известных как имазирги или асгары, которое и было родным племенем легендарного Ибрагима Ганнибала [1 - Автор придерживается версии Алесана А. Сулайе о происхождении Ибрагима Ганнибала.]. И его имя – Алесан – не что иное, как Александр: в транскрипции туарегов.
В свое время отцу Алесана, Абергаму Сулайе, изучавшему историю, философию и право в Кембридже, случайно попал в руки томик стихов Пушкина с тем самым юношеским портретом поэта, в котором, как нигде сильно, проступали африканские черты: курчавые волосы, вывернутые губы, сверкающие глаза. Фамильное сходство этого незнакомца со своими предками поразило молодого короля в самое сердце. Он узнал о «русском туареге» все, что мог, и чем дальше, тем больше убеждался, что Ибрагим Ганнибал, «арап Петра Великого», – не кто иной, как похищенный в раннем детстве Абергам – старший сын Великого Быка Сулайи VIII. Нынешний Сулайя был четырнадцатым носителем родового имени. После этого похищения правящий титул перешел к младшему сыну короля. Но если бы не исчезновение Абергама, младшей ветви не видать бы трона, как своих ушей! В память о похищенном принце всех мужчин из рода Сулайя теперь называли Абергамами.
Абергам Сулайя ХIV не был чужд исторической справедливости. Он попытался разыскать в России потомков своего родича, однако в конце шестидесятых годов это было не так-то просто сделать. Вдобавок, атмосфера Туманного Альбиона вредно отражалась на здоровье молодого короля. Он поспешил вернуться на родину, чтобы назначить наследником старшего из своих немногочисленных (всего лишь тринадцати) сыновей, разница между которыми составляла несколько дней, неделю, едва ли месяц. Согласно законам лесных туарегов, отправляясь в дальний путь, король должен постараться оплодотворить как можно больше женщин, чтобы семя его (воплощение бессмертной души) рассеялось в родных местах и не переставало звать к себе из тех чужедальних далей, куда он был намерен отправиться. За отведенный для этого месяц Абергам возлег с девяносто пятью женщинами племени. Результатом обряда стало сорок детей. Однако мальчиков родилось только тринадцать, из чего дукуни племени сделала вывод, что нынешний Сулайя довольно скоро уступит место следующему.
Однако в ту пору он был еще жив и вполне дееспособен.
Наследному Великому Быку к тому времени едва исполнилось три года, и у него еще не было имени. Его называли просто даку – мальчик, иногда даку соле – мальчик короля, и он не сразу привык к тому, что теперь его имя – Абергам Алесан, будущий Сулайя ХV, и прочая, и прочая, и прочая…
Ради спасения собственной жизни королю запретили покидать Африку: дукуны и дукуни туарегов оказались в этом единодушны с белыми врачами. Да у него и на родине хватало дел: нелегко бороться с влиянием белых на черном континенте, желая и коренную Африку сохранить в неприкосновенности, и дать ей все блага западной цивилизации! Чтобы лучше узнать врага изнутри (самым сильным врагом, конечно, была Америка), он послал сына не в Кембридж, а в Гарвард, дав свой родительский наказ: непременно побывать в России.
В 1990 году Алесан исполнил волю отца. Впрочем, без особой охоты. Он, конечно, съездил в Михайловское и даже в Тригорское, однако в Болдино, затерявшееся где-то в глубинах дремучей Нижегородчины, его не тянуло. Алесан превесело проводил время в Москве, расцвеченной огнями столь смелых демократических преобразований, что сама Америка казалась по сравнению с ней старушкой-пуританкой, как вдруг получил известие, что английский сплин догрыз-таки его отца: тот лежит на смертном одре и призывает молодого принца немедленно вернуться.
В том, что отец первым делом спросит, отдал ли Алесан родственный долг великому русскому африканцу, он не сомневался ни минуты. Перед ним стоял выбор: солгать умирающему или огорчить его. Алесан решил не делать ни того ни другого: прыгнул в белый джип «Шевроле», более других его автомобилей напоминающего любимого белого слона, который ждал хозяина в джунглях, и погнал его в Нижегородскую губернию, пытаясь повторить путь своего родича.
Алесан уже приближался к месту своего назначения, когда солнце скрылось, сделалась метель. Вскоре в полуметре ничего нельзя было разглядеть. Алесан даже не заметил «КамАЗа», выскочившего навстречу на полной скорости. Помнил только боль… которая терзала его долго-долго, а потом чудесным образом почти прошла при звуках тихого голоса, бормотавшего любимые стихи умирающего короля лесных туарегов:
– Мчатся тучи, вьются тучи…
Потом Алесан уверял Германа, что его спасла не только смелая операция, не только щедро отданная кровь, но и эти слова, которые принц с детства помнил и привык считать чем-то вроде колдовского заклинания. Было нечто непостижимое в том, что белый человек, отдавший Алесану свою кровь, вдруг начал читать именно эти стихи! Принц не понимал, что, живя в Болдине, невозможно не дышать Пушкиным, и уверял Германа, будто дух отца вселился в русского доктора, чтобы воскресить сына-наследника.
Но все это было сказано потом, потом… Потом они условно восстановили картину аварии: шофера, едва не убившего Алесана, но все же доставившего его в больницу, так и не удалось разыскать. Потом вместе помянули короля лесных туарегов – он так и не дождался сына. Потом назвали друг друга побратимами и поклялись в вечной дружбе. Потом Алесан взял с Германа слово непременно навестить его и уехал восходить на трон, который, судя по косвенной информации, начал ощутимо шататься под отсутствующим королем. Герман слово-то дал, но подумал, что съездить в Африку ему так же реально, как побывать в поясе астероидов.
Узнав, что его сестра Лада вышла замуж за Кирилла Смольникова, он ощутил, что ему хочется оказаться подальше не только от Нижнего Новгорода и от Москвы, где поочередно решили жить молодые, но и вообще от России. Как можно дальше! Желательно на краю света.
В Африке, например.
Он дождался вызова от Алесана и уехал. Он хотел пробыть в Африке как можно дольше, например, год!
Герман вернулся через семь лет.
* * *