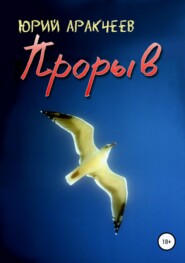 Полная версия
Полная версияПрорыв
Тут тоже было довольно много людей, но – как и в «Новом свете» – более молодых, не остановленных расстоянием в 4-5 километров, отделяющим Тихую бухту от пляжей пансионатов и турбаз. Для каждого из этих людей поход в Тихую бухту – тоже в какой-то степени прорыв, пусть и скромный, не претендующий, конечно, на многое.
Слишком много нас на земле стало, и все труднее вырваться на свободу – вот когда-то, вероятно, одно лишь пребывание в Тихой бухте, одинокое, зачарованное, составляло прекраснейшие часы и было тоже как «отзвук песни», однако теперь многолюдье глушит всякие отзвуки, а экзотические и девственные некогда берега замусорены консервными и пластиковыми банками, бутылками, бумажками, травы вытоптаны, очумелые редкие бабочки мечутся в поисках уцелевших цветов. В одном нашем прекрасном мире слишком много разных человечьих мирков, причем далеко не самых богатых, не самых духовно развитых, а потому трудно стало спеть свою, именно свою – полноценную, живую, не навязанную кем-то, не заглушенную «обстоятельствами» – песню, свою полноценную партию в едином общем хаотическом хоре. И как же отыскать чей-то чистый голос в суетливом, примитивном многоголосье?
И все же мы вынуждены как-то ориентироваться – тела и лица несут все же какую-то информацию о душах, которые их населяют. И пусть неминуемы здесь ошибки, искать все равно приходится. Ведь правильно сказано: «Один человек – не может», то есть общество необходимо…
А для меня тем более: познав прекрасное, так не хочется удовлетворяться посредственностью… Этим был, конечно, отягощен мой поиск. Казалось бы: так уместно сейчас мне вообще ни на кого из девушек не смотреть, наслаждаться морем, чайками, окружающим райским пейзажем, воспоминаниями… Однако… Не верю, не верю я все-таки, что прорыв был случайностью. Не верю! Все есть вокруг, все должно быть вокруг – многое, очень многое наверняка зависит от себя самого. «Все – во всем»!
Каков мир на самом деле? Где разгадка настоящей, правильной, полноценной жизни? Как добиться ее?
Да, поиск мой не увенчался успехом. Полусонные загорающие тела, пусть иногда и неплохо сложенные, не будили воображения, а лиц достаточно живых что-то вообще не было видно. Я прошел довольно далеко вдоль берега – туда, где людей уже стало меньше, песчаный пляж кончался, прямо из воды вырастали дикие бурые камни с нежно-зеленым бордюром водорослей – словно коротенькие юбочки, колыхаемые тихим прибоем.
Природа неизменно прекрасна, если она не изуродована «человеческим фактором», но все равно уходить лишь в нее, отвергая своих соплеменников – особенно противоположного пола, – в этом есть большая печаль и, конечно же, неполноценность. Не от хорошей жизни мы все же так часто ищем уединения, уходя от людей, делая лучшими своими друзьями и любимыми кошек, собак, попугаев и даже мышей и крыс… Не говоря уже о цветах и деревьях, лесных и морских далях, закатах, восходах… А хорошего общества все же очень хочется. И – к слову – не верю я в мазохистские уверения некоторых сегодняшних, даже вполне еще молодых и здоровых мужчин, что им, мол, наскучил «убогий человеческий мир» и они готовы с радостью уйти в полное одиночество, скрыться от мира, который «не соответствует» их «высокому интеллекту», их «развитому сознанию» и прочее, прочее. Как правило, это индивидуумы, слишком возомнившие о себе и терпящие фиаско – главным образом с «убогим» женским полом, и просто-напросто сдавшиеся. Учиться надо и не пугаться жизни, не уходить от нее позорно – вот что достойно мужчины! Напяливать на себя тогу «мудреца», не познав великих возможностей жизни – последнее дело. Достаточно оглядеться внимательно – увидишь совсем рядом такие возможности, что дух захватывает! Зажмуривать глаза, затыкать уши и складывать конечности легче всего, но тогда спрашивается: зачем ты сюда пришел? И какое это имеет отношение к мудрости?
Но не было, не обнаружил я в Тихой бухте ничего для себя в человеческом образе (естественно, женском)! Природа, как всегда, щедро показывала свои прелести – море меняло цвет, оттенки и ароматы, песок ласково щекотал ступни, галька пестрела формами и рисунками, будя фантазию; иногда пролетали быстрые бабочки, напоминая о существовании таинственного и прекрасного мира крылатых созданий, всегда так волновавших меня своей необъясненной никем красотой, звавших в путешествия за уникальными видами (здесь, как я заметил, встречались сатиры нескольких видов, перламутровки, желтушки, эребии…); травы пахли, качались, вызывая в воображении какие-нибудь экзотические пампасы; цветы, даже самые скромные, неизменно удивляли глаз своим загадочным совершенством… Но люди, люди! Высшее произведенье природы, сложнейшее творение Бога… Где вы – живые, эмоциональные, открытые этому богатейшему из миров и друг другу? Не слепые, не глухие, не копошащиеся убого в своих тусклых мирках, не гасящие эмоции, не загоняющие в подполье дух при живом еще теле… Где вы? Или на самом деле неудержимо уплывающие в прошлое несколько моих счастливых дней были случайным, редчайшим всплеском, а, может быть, и вообще иллюзией? Может быть, я все это вообразил?
Купанье в легких теплых – дружественных! – волнах было великолепным, но и оно, естественно, не могло полностью удовлетворить мой смятенный, ищущий дух. Желание понять, разгадать тайну нашего общего бытия на Земле, не оставляло ни на миг, делало озабоченным, несвободным. Я словно бы ощущал странное обязательство – мне нужно было во что бы то ни стало кого-то найти, чтобы до конца убедиться! Не бабочек, не цветы, не камни и море, не теплый, нашептывающий что-то ветер… – с этим всегда было у меня в порядке, мы всегда находили общий язык…
И разумеется, не в эротической зацикленности было дело – сексуальную озабоченность я вообще испытываю не так уж часто. Даже дома, в городе, бывало так, что, мучаясь от долгого сексуального воздержания, понимая разумом, что оно даже физиологически вредно, я находил чей-нибудь телефон – желательно «понадежнее», – звонил, договаривался, она приходила… Однако озабоченность моя исчезала тотчас с ее приходом – едва я видел ее лицо. Не потому, что оно мне не нравилось, а потому что я ощущал стыд. Я ведь позвонил ей из сугубо «потребительских» соображений, а это унизительно для нас обоих. И мне уже – не хотелось! Как будто это не я мучился от воздержания всего лишь несколько часов назад… Простой онанизм – и тот благороднее несравнимо, считаю я. Там ты только одного себя успокаиваешь и унижаешь обманчивым компромиссом, к тому же вполне можешь дать волю изысканнейшей фантазии. А с ней… И приглашенная мною «скорая сексуальная помощь» уходила невостребованной, как правило, а я мучился раскаянием в одиночестве… Нельзя унижать божество, нельзя!
О, моя возлюбленная индианка, креолка, русалка! О, торжественно садящееся за горами солнце! Ну ведь должен же быть отблеск еще хоть в ком-то!
Прекрасным, романтичным, красивым был мой поход в Тихую бухту. Но – неполноценным, увы…
7
После обеда в столовой Дома творчества (Вася-Роберт не появлялся там уже несколько дней подряд, я встречал его лишь вечерами на набережной, он, очевидно, все еще переживал наше с Галкой «неблагородство»…) я меланхолически стоял у парапета набережной, глядя в морскую даль, и вдруг увидел внизу, на гальке молодую женщину, которая прежде, чем войти в воду, довольно долго смотрела на небо, на облака. Стало прохладно, вода, очевидно, была не очень-то теплой, и девушка, видимо, следила за облаками, рассчитывая, чтобы к моменту выхода ее из воды выглянуло как раз солнце.
Она была хорошо сложена, но особенно привлекли мой взгляд ее плечи, спина. Было в форме их то самое «чуть-чуть», что отличает гениальную скульптуру от какой-нибудь пусть даже искусной, но не озаренной истинным талантом поделки. Великолепные были плечи! В них звучали едва уловимые ноты гармонии, которые как раз и рождают музыку. Музыку бытия… Я не видел тогда еще одного знаменитого французского фильма, но уже слышал, что сюжетом его стала очарованность достаточно взрослого и бывалого мужчины всего лишь коленями молодой и вполне глупенькой девушки. Заветной мечтой его было просто потрогать, погладить эти худенькие, совершенно еще «целомудренные», хотя и прекрасные, волнующие суставы… Так и называется этот фильм – «Колено Клер». Фильма я, повторяю, тогда не видел, но… Как я француза этого понимал! «В лесу, в горах, на суше и на море, в стволе древесном, в бабочке, в цветке, в касанье легком ветерка, в сверканье волн, в полете облака – везде я вижу образ твой, о, Афродита!»… Признаюсь, это стихи мои личные, уж извините.
Наконец, девушка решилась, ступила осторожно в воду, поплавала немного у берега и вышла. С ее царственных плеч и по спине, по невысокой груди, затянутой в темный купальник, по загорелым бедрам стекали струи воды. Чуть постояв, она улеглась на подстилку. Лежа она тоже выглядела великолепно.
Торжественным и неспешным было мое движение вдоль парапета, спуск по каменным ступеням лестницы, шаги по хрустящему галькой пляжу. Сначала еще нужно было поближе разглядеть ее лицо, чтобы хоть приблизительно представить себе обладательницу чудесных плеч и спины.
Она лежала навзничь, глаза были закрыты, но лицо мне в общем понравилось. На вид было ей лет двадцать пять. Пройдя мимо, отойдя шагов на двадцать, я повернул назад и, поравнявшись с ней, приблизился вплотную. И тотчас решительно присел рядом на корточки.
– Ну, как вода? – сказал я негромко. – Я видел, вы купались…
Она приоткрыла лишь один глаз, слегка скосила его в мою сторону.
– Прохладная, – сказала сухо, и глаз закрылся.
– Да, похолодало, – риторически произнес я и спросил:
– А вы здесь одна?
Девушка слегка пошевелилась, как бы отгоняя назойливое насекомое, – я всеми фибрами чувствовал поднимающуюся в ней досаду и был готов уже к тому, что она вообще не ответит, – однако она ответила:
– Ну, скажите, какая вам разница?
Так. Именно вот поэтому я терпеть не могу знакомиться, хотя жизнь и вынуждает. Своими обычными действиями ты тотчас попадаешь в разряд обычных навязчивых самцов, кои для любой мало-мальски приятной девушки представляют нечто напоминающее надоедливых мух. Но что же, милые вы мои, божественные создания природы, – но что же делать? Как еще подойти к тебе, случайно встреченная прекрасная незнакомка, как начать, как удержать тебя хоть не надолго рядом, чтобы появилась возможность дальнейшего, чтобы не затерялась ты в суетливом окружающем многолюдье? Да ведь не собираюсь же я тотчас предлагать тебе вечную дружбу, загс или еще что-то длительное и обязывающее. Даже любовь свою предлагать вовсе не собираюсь, даже, представь, сексуальную близость! Но простое-то человеческое общение – пусть мимолетное, ни к чему никого не обязывающее – разве на него согласиться так трудно? Ведь ты еще ничего не знаешь обо мне, решительно ничего. Мало ли… Вдруг?
Что же ответить ей на это ее досадливое: «Ну, скажите, какая вам разница?» Проблема…
– Вы лежите одна, – сказал я спокойно. – Я подумал, может быть, вы скучаете?
Глупость! Понимаю, что глупость. Но все же лучше, чем вообще ничего не ответить и позорно удалиться в ответ на ее досаду. Хотя я и понимал, что в моих дурацких словах мог прозвучать для нее оттенок жалости, некоторого, якобы, неуважения к ее женской привлекательности, неверия в то, что ее возможности никогда не позволят ей скучать.
И вполне естественно, что досада еще больше поднялась в ней, и она ответила с раздражением, неприязненно посмотрев на меня:
– Послушайте! Я приехала отдыхать. Неужели обязательны знакомства, встречи? Могу я просто отдохнуть?
Раздражение все-таки лучше, чем оскорбительное равнодушие, оно-то и дало мне возможность поддержать «беседу».
– Можете, разумеется, – ответил я уже более твердо. – Вы правы: вовсе не обязательны знакомства, встречи.
И – вот парадокс! – тотчас почувствовал, что положение улучшается, одна только нотка твердости в моем голосе сбивает с нее дурацкую спесь, напоминая хотя бы издалека, что оскорблять меня просто так, просто за то, что я подошел случайно, а, следовательно, испытал какой-то интерес к ней, еще нет оснований.
– Удивительная у вас реакция! – продолжал я, став уже почти совсем самим собой. – Первый раз встречаю такую. Понимаю, конечно, что вам, видимо, надоели – вы девушка привлекательная. Я видел вас сверху, когда вы купались. У вас очень красивые плечи, просто царственные. Разве я вас оскорбил чем-то? Почему такой раздраженный тон?
Подействовала, конечно, не логика. Подействовал комплимент. Она смягчилась и в первый раз посмотрела на меня двумя глазами и даже улыбнулась слегка.
– Извините, я буду загорать, – сказала она уже почти по-человечески. – Скоро уезжаю, последнее солнце…
Она уже как бы оправдывалась передо мной! Но все же опять легла и закрыла глаза.
Теперь вполне уместно было спросить, когда именно она уезжает, давно ли здесь, откуда, где учится или работает. Появилась тема, а с ней и букет нюансов. Теперь даже ее колючесть я мог поставить ей в заслугу, посчитав ее свидетельством раскованности и отсутствия интеллигентской фальши.
Она из Москвы.
А еще сработало, видимо, что отдыхаю я в Доме творчества, следовательно писатель, и было очень удобно пригласить ее в кино вечером, но почему-то я вспомнил о Васе и сказал, что она может прийти и с подругой.
– Не знаю, согласится ли Ирка, – ответила она. – Если согласится, то мы придем.
Звали ее Наташа.
8
Уже стемнело почти, были поздние сумерки, я вглядывался в проходящих, чтобы не пропустить ожидаемых, и сердце мое – в который раз! – слегка сжималось в предчувствиях и надеждах. Какую тайну несет эта новая знакомая с царственными плечами, что подарят минуты с нею, оправдаются ли на этот раз ожидания, смогу ли увидеть хоть отблеск того, что в столь сильной степени проявилось совсем недавно в ослепительном и незабвенном прорыве? Негаснущее воспоминание о нем, разумеется, грело меня, делая отчасти независимым и свободным. Однако…
Да, я все-таки понимал Василия и не мог оттолкнуть его окончательно от себя – «кто без греха, пусть первый бросит камень»… Кажется странным, что после всего того, что произошло с Галкой, я поддерживал с ним какие-то отношения и даже имел его в виду, когда знакомился с Наташей на пляже. Однако если подумать, то что же здесь странного? Разве не делаем мы все то же самое, всю свою жизнь в общем-то идя на компромисс? Да, и с мужчинами тоже приходится «гальванизировать трупы». Если не «гальванизировать», не рискуем ли мы остаться в гордом одиночестве? Да и не всегда это трупы, сплошь да рядом это всего лишь больные, нельзя же вот так запросто оставлять их в беде.
Конечно, было смешно и жалко наблюдать в первые дни после отъезда Галки, как вполне взрослый этот, сложившийся, казалось бы, человек упорно хранит на лице обиженно-злое выражение при встречах со мной в столовой, как тянет кверху свой остренький носик и оттягивает книзу углы тонких губ, как бросает всего лишь короткое «привет» и старается не смотреть на меня. Чувствовалось, что даже свое скупое «привет» он считает великодушным актом со своей стороны… Но так хотелось мне все же, чтобы он понял наконец то, что произошло, осознал бы и то, что мешает ему в столь существенном для него вопросе. Ведь он суетился по-прежнему, и видно было, что по-прежнему без успеха. Кого теперь находит он виновником постоянных своих неудач? Ясно было, что все еще не того человека, который им на самом деле является…
И за ужином я сказал Васе, что познакомился с девушкой и она собирается прийти с подругой.
Разумеется, Вася не оттолкнул на этот раз протянутую мною руку, тем более, что в руке было не что-нибудь, а то, что имеет для него преобладающую надо всем другим, высшую ценность. Он только сказал, что у него телефонный разговор с Москвой в восемь часов, и он придет в половине девятого с магнитофоном. А я договорился с Наташей на восемь.
И вот теперь я ждал там, где договорились, у живого календаря – то есть у клумбы, на которой каждый день выкладывал садовник число и месяц из маленьких живых кактусов…
И опять, опять настаиваю я, доброжелательные свидетели моих писаний: не было во мне коварной измены той и тому, чем так ослепительно жил я совсем недавно! Наоборот! Я не хотел быть рабом того, что уже было, я хотел понять… Прорыв остается прорывом, и разве может посягнуть на него упорный и искренний поиск нового, попытка разгадать и понять, желание овладеть секретом постоянного непрекращающегося полета?
Наконец, девочки появились в одной из аллей. Их было двое – Ирка согласилась… – но уже первый взгляд на них принес мне трезвое осмысление действительности, грубо разрушив иллюзии, которые начали, было, разрастаться.
Лицо, глаза, взгляд Наташи оказались при новом рассмотрении уже не теми, какими привиделись днем на пляже. Лицо Наташи было каким-то стертым, смятым, явно зависимым – неужели от Иры? – никакой царственности не было в нем, а несомненно царственные все же – я помнил! – плечи ее были закрыты одеждой. «Ирка» оказалась черненькой круглолицей девушкой, курносенькой, с черными кругловатыми глазками, словно пуговки, улыбчивой и, кажется, живой. Но что-то в ней с первого взгляда насторожило меня…
Я сказал, что кино, как мне сообщили, плохое, поэтому пойдем лучше к нам в гости слушать музыку, а товарищ мой придет чуть позже. Девушки согласились. И когда шли, я с грустью убедился еще и в том, что царственные плечи, так приглянувшиеся мне на пляже, находятся на несколько более высоком уровне, чем мои – Наташа оказалась безнадежно высокой. Ох уж эти акселерированные современные поколения… Кому-то это несоответствие, возможно, безразлично, однако меня таковое всегда смущает… Фигурка Иры была складненькая и невысокая, грудь мило топорщилась, но… Пока мы шли по аллеям с коротенькими незначительными разговорами, моя первая настороженность почему-то все больше крепла, а когда поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в мою комнату, я, кажется, окончательно понял…
Человек несет очень много информации о своем внутреннем мире в одном только внешнем облике – недаром же есть целая наука, которая уже только по лицу определяет и эмоциональный, и психологический портрет человека, – но движения, жесты, а тем более слова несут еще больше… Короче говоря, когда мы вошли в комнату и вспыхнул свет, и девушки осматривались, улыбаясь и произнося коротенькие реплики, я хотя и старался из любезности сохранить на своем лице вполне доброжелательное, гостеприимное выражение, почувствовал однако тянущую безнадежную тоску, столь привычную, столь знакомую…
Наташа начала как-то странно хихикать – совсем не царственно, – а Ира, которая явно главенствовала, так и излучала полную уверенность в своей непогрешимости как в отношении своих внешних данных, так и в отношении умственных, что меня всегда раздражает крайне.
Трудно вспомнить, с чего начался наш разговор, но он начался и перешел вдруг на тему, которая достаточно серьезна для меня и которая, как я понял тотчас, составляет любимый предмет для Иры. Оказалось, что она работает в редакции телевидения и абсолютно – «на сто процентов» – довольна своей работой, которая заключается в ответах на письма телезрителей.
– Раньше я принимала все близко к сердцу, без конца переживала по пустякам, когда жалобы приходили, а теперь все поняла, и работа мне стала нравиться.
– Что же вы поняли, Ира?
– Я поняла, что все равно ничем не могу помочь, поэтому и переживать нет смысла.
– Но тогда чем же вам нравится эта работа?
– Ну, как чем. Интересно. Чего только ни пишут. Смешно иногда. Забавного много. Ответы составлять интересно.
– Но какой же смысл ваших ответов, если вы ничем не можете помочь?
– А надо так составить ответ, чтобы человек думал, будто ему помогли.
– И это вам нравится?
– А чего же? Главное не переживать по пустякам. Это – мудрость…
А у меня прямо-таки в затылке что-то заныло и щеки, наверное, задергались, потому что окончательно понял: вечер пропал. И по привычной двойственности так обидно стало за девочку – молоденькую, стройненькую, с большой грудью и совершенно невинными кругленькими глазками. И, конечно же, за себя. Что же делать в предстоящие несколько часов? Нельзя же выгнать их вот так, сразу…
А Ира тем временем увлеклась и уже развивала тему. Она говорила, например, что я вот «свободный художник», как я сам выразился, а следовательно живу я, значит, исключительно для себя, эгоистично и узко. А она и такие, как она, которые служат кому-то, живут как раз наоборот для других. Такие, как я, с точки зрения социальной, плохие люди, бесполезные в обществе, а такие, как она – служащие, – наоборот, полезны. Все это была, разумеется, скуловоротная чепуха и лучше всего было бы не обращать внимания, перевести разговор на другое, но я уже завелся и не мог удержаться, потому что есть вещи, которые нельзя трогать походя, просто так, даже в том случае, если говорят о них мужчина и женщина, даже если пришли наши девочки совсем не для этого.
– Кому же вы служите, Ира? – спросил я, не в силах скрыть своего отношения к тому, что она говорила. – И кто эти «другие», для которых такие хорошие люди, как вы, живут?
– Есть правительство, есть руководство, они поставлены не случайно, правда ведь? Если, например, человек работает двадцать лет, он же знает, что делать, так? Как же его не слушаться?
– А вы можете быть с ним не согласны? Разве не может этот человек ошибаться?
– Согласна я или не согласна – не важно. Он лучше знает.
– А если ваша совесть не позволяет вам поступать так, как вам велят, вы все равно поступаете?
– А, совесть!… Что такое совесть? Когда речь идет о деле, причем тут совесть. Если она меня мучает, значит, плохая совесть. Социально неразвитая…
И она не шутила! Больше того, я видел, что и она не может остановиться, случайно мы затронули то, что и для нее является важным, и в разговоре нашем нет и намека на какой-нибудь флирт. Как это ни нелепо, но два мировоззрения столкнулись вдруг так не вовремя – вот тебе и мужчина и женщина с потенциально могущими запеть друг от друга телами!
– Но, Ира, вот вы говорите, что свободный художник живет исключительно для себя. А может быть свободный художник как раз и пытается понять, правильно ли поступает руководство, правительство, он ведь и изучает жизнь для того, чтобы знать, как правильно жить. В этом как раз и заключается долг художника, журналиста, писателя…
– А, это чепуха! Никто не знает, как правильно. А раз правительство есть, значит, ему и нужно служить.
– И партии?
– И партии.
– А если, например, курс ошибочен?
– Поправят. Сами и поправят. А художники не при чем. Знаю я «свободных художников»! Папе звонят эти «свободные художники», писатели так называемые, а со мной советуются, с девчонкой. Советуются, как папу моего ублажить…
– Папу? А кто у вас папа?
Ира замялась, и тут, наконец, Наташа получила возможность вставить словечко. В продолжение всего нашего разговора она молчала, всем своим видом, однако, демонстрируя согласие с Ирой, и это меня особенно злило, ибо так не вязалось с царственностью ее плеч, спины…
– У Иры папа главный редактор. Издательства. Поэтому и…
Ну, конечно. Вот оно что. Что еще могла проповедовать дочка главного редактора? И как же ей не считать себя непогрешимой, если наши бедные писатели, звонящие всемогущему папе, естественно, внимали каждому ее слову! А еще и ответы на письма телезрителей, причем в сознании собственной непогрешимости на своем «официальном» посту… Бедная, бедная девочка! И все же не мог я вызвать в себе искренней, доброй жалости к ней и сочувствия, как ни пытался добровольно подпасть под власть ее внешней привлекательности. Ведь фигурка, ведь божественное женское тело – дар природы, – со всеми необходимыми признаками, ведь грудь такая высокая и вроде бы милые живые глаза… Но казалось уже, что грудь ее – это просто муляж, как, вероятно, и все другое, а глаза не выражали никакой истинной женственности, хотя и блестели на женском как будто лице.
– Ну, это все ладно, Ира, это все ладно, – пытался я хоть как-то найти путь к примирению. – Но вот что удивляет меня. Вы ведь не знаете даже фамилии моей, хотя догадываетесь, что пришли к писателю. Почему бы вам не узнать хотя бы, кто я такой, почему бы не прислушаться к моим доводам, вдруг в них что-то есть полезное и для вас? Такое впечатление, что вы давно все для себя бесповоротно решили и никаких сомнений у вас теперь не может быть, не кажется ли вам, что это абсурд? Вы молодая девушка, у вас вся жизнь, можно сказать, впереди, неужели вы навсегда распрощались с сомнениями?
– Я не такая уж молодая. А сомнений мне хватит. Надо жить для людей, а не для себя. Все эти сомнения – сплошной эгоизм. Надо честно работать.
Ну, это бы ладно. Ясен был хотя бы анамнез. Происхождение болезни. Болезни сознательного, чуть ли не научного рабства. Самое горькое, как я осознал, наконец, было все же не это. Каждый, в конце концов, волен поступать так, как ему нравится. Но Наташа…



