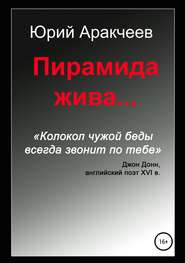 Полная версия
Полная версияПирамида жива…
Разве, положа руку на сердце, я могу сказать, что был несчастен? А «джунгли во дворе»? А «космос» цветных растворов? А путешествие с фотоаппаратом на парковых и лесных полянах сначала, а потом и поездки дальние?… Ведь билеты тогда были дешевые, а еще от Союза Писателей давали «творческие командировки», вовсе не заставляя меня писать не то, что я сам хочу… А путешествия мои на дорожном велосипеде? Да, по родной стране я поездил (в отличие от многих, которые и этого не смогли…) – даже книги писал об этих поездках, и видел, и фотографировал многое. Но почему же я (и разве же только я?) никак не мог хотя бы отчасти осуществить то, что для обычного работящего человека Европы или Америки считается вполне обыденным делом? Я (как и вы) гражданин крупнейшей страны планеты (шутка ли – одна шестая часть суши!), богатейшей по природным запасам… В нормальной стране я (писатель, автор десятка книг, множества статей, многих тысяч профессионально выполненных слайдов и прочая, прочая…) мог бы не только объехать мир, я, может быть, купил бы небольшой остров (с цветами и бабочками)… Как многие, многие из тех честных, порядочных, работящих людей, которых всегда хватало в России… Так почему же… Да, кто-то и в прошлые годы бывал за границей – с милостивого разрешения начальства, под недреманным оком «органов», испытывая постоянные унижения… Да, теперь-то тем более ездят – если удается накопить на путевочку, если выдадут, наконец, месяцами удерживаемую зарплату, если чудом удастся где-то как-то подработать… Или – вот уж везение так везение! – если милостиво пошлет теперь другое (но сплошь да рядом ВСЁ ТО ЖЕ) начальство… А ведь это – моя страна. Наша.
Моя ли? Наша ли?
Хозяева
Только в 90-х случайно попал мне в руки журнал «Известия ЦК КПСС», возобновленный в 1989 году, не издававшийся с 1929 – шестьдесят лет… Фотографии и краткие биографии первых секретарей обкомов. Боже ж мой, какие лица. Сам фотограф, я знаю, что и не блещущее интеллектом лицо можно снять так, что хоть не стыдно будет. А тут… Неужели даже фотограф не мог ничего сделать? А они-то не видели разве? Или посчитали, что все правильно, так и надо, фотографии СООТВЕТСТВУЮТ? А ведь именно они, эти люди, держали истинную власть в нашей стране – словно пауки на гигантской, на одну шестую часть суши, паутине. Крепко держали, все нити были в их руках. Редко-редко мелькнет лицо нормальное, а главным образом… Жуть. И упорство, и «бескомпромиссность» в глазах, безжалостность абсолютная. Ради чего? Неужели ради «светлого будущего всего человечества»? Сомневаюсь… Одинаковые, стертые, НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ лица. А ведь не только власть – вся жизнь подданных была фактически в их руках. Не от природы, не от Бога зависела она – от них… Одного я знал, когда он был еще секретарем райкома. Случайно тогда попал на воскресный обед – «обед в страду» (он описан в моей повести «Постижение»), – случайно оказался свидетелем пьяного, отвратительного застолья, во время которого «пред очами хозяина» предстал срочно вызванный порядочный сельский учитель, которому пьяный царек «давал указания»: велел прислать на «сельские работы» сотню учеников, хотя занятия в школе уже начались. Изо всех своих интеллигентских сил защищал учитель своих питомцев, да где уж. Против лома нет приема… «Светлое будущее»? Вот кто якобы «строил» его. Они.
Только опять же: причем здесь идеология? Насколько я знаю, ни у Маркса, ни у Энгельса нет ни слова об «Архипелаге ГУЛАГ» или о чем-то подобном, а, наоборот, есть утверждение, что социализм – это «от каждого по способностям, каждому по труду». И еще, что социалистическое общество должно стремиться к «всестороннему развитию каждой личности». А также: «свободное развитие каждого – гарантия свободного развития всех». Ничего такого я как-то не наблюдал у наших «советских» лидеров. А вот «Архипелаг ГУЛАГ» – это как раз изобретение «марксиста» Ленина, об этом очень ярко свидетельствуют его распоряжения и письма, опубликованные в 50-м томе (очевидно, и в других тоже). В этой связи нужно заметить, что если кто-то объявляет себя кем-то, то это вовсе не значит, что он этим «кем-то» является. Был ли Ленин на самом деле марксистом – большой, большой вопрос…
Да, я понял, почему эти «Известия» столько лет не издавались. И вот – попробовали, возобновили. Все – на виду. Стальные звенья. «Гвозди бы делать из этих людей».
А сейчас что же? Что у нас изменилось по существу? Что сделали-то с великой страной?
И по жестокой иронии судьбы в тот же день, что и «Известия ЦК», попался мне журнал «Огонек» с рассказами и статьей о Варламе Шаламове. И тоже с фотографиями. Этот мученик, отсидевший не один десяток лет в страшных сталинских лагерях, сумевший описать то НЕБЫТИЁ, прославившийся на весь мир рассказами о том кошмаре, почти не печатался при жизни на родине, а умер, хотя и «реабилитированный», – в доме для престарелых. В журнале была одна из последних прижизненных фотографий… Ослепший, оглохший, смертельно больной писатель, гордость Родины, стоик и мученик, сидит на убогой постели в том самом доме и протягивает руку к чашке с молоком… Как сопряглась эта фотография с теми «бескомпромиссными» лицами! Коварно сопряглась… Коммунизм, говорите? Светлое будущее? Ну-ну.
О чувствах тут говорить не приходится, как, разумеется, о чести, совести и других «буржуазных предрассудках». Но где же хотя бы элементарная вменяемость, где ощущение реальности?
Нет, у нас не страна дураков. У нас немало и умных людей. Но у нас ПРИОРИТЕТ ДУРОСТИ, вот в чем дело. Приоритета ума у нас нет, от него одно только горе. А вот дурость – милости просим, пожалуйста. Не думаю, что в других странах дураков меньше, чем в нашей. Как бы не так! Но сомневаюсь, чтобы где-то еще дураки пользовались таким режимом наибольшего благоприятствования, причем – особенно! – в «высших эшелонах власти»…
Страна ВЛАСТВУЮЩИХ дураков – вот что такое моя страна.
Но одного я никак не могу понять. Почему же мы-то им позволяем? Почему, поручая кому-то управленческую работу, мы фактически никак его не контролируем, позволяя не только не выполнять своих обещаний, свой долг, но унижать нас, обманывать, воровать и убивать? Даже за явно совершенные преступления мы самых главных своих «вождей» не судим. А вместо этого постоянно хвалим, что бы они ни сделали. Почему? Ведь «вожди» наши – такие же люди, как мы. Разве что спрос с них должен быть больше. Почему же мы так и норовим сделать их чуть ли не богами? За что?
Кончина Валентины Владимировны
Последний наш телефонный разговор был в ноябре.
А в декабре мне позвонил мой ленинградский друг, у которого я останавливался, когда ездил к ней, и телефон которого она знала. Он сказал, что Валентина Владимировна Бобрович умерла две недели назад. Его номер телефона нашли в ее записной книжке вместе с моим.
Никаких подробностей ему не сообщили. Сказали только, что похоронили ее с почетом и за счет предприятия, где она в последнее время работала – преподавала музыку и танец детям.
Потом я выяснил, что она заболела воспалением легких и умерла в больнице через неделю. От инфаркта.
«Поедем со мной, девушка!» (счастливый день)
(рассказ В.В.Бобрович)
Ноябрь на Колыме – месяц зимний. Правда, солнце еще восходит, но едва-едва приподнимается над лесом или над небольшими сопками. Морозов больших еще нет, а так, пустяки, градусов 20.
Река Колыма уже встала. Лед держит лошадь с поклажей, и поэтому начинается возка дров, заготовленных на другой стороне Колымы. Дрова сухие, годичной выморозки, легкие. Ехать в ноябрьский солнечный день за дровами приятно.
По обеим берегам реки стоит стеной коричневая тайга, по колено в снегу. Солнце перебирает алмазы на ветках, и они блестят, играют, переливаются, как будто и вправду не иней. Тишина кругом. Дорога по льду уже накатана. Лошадь-якутка бежит охотно.
И вот в такое сказочное утро поехала я за дровами, которые должна привезти на конбазу. А раз на конбазу, то и лошадь дали мне выездную, для проминки. Да еще и потому дали ее, что зав.конбазой знал мою любовь и умение обращаться с лошадьми.
Сижу в санях, спиной по ходу. Дорога убегает из-под саней, солнце окрашивает все вокруг в волшебные тона. На душе спокойно, конвоя со мной нет, и кусок хлеба за пазухой. А что еще надо молодой, здоровой женщине-заключенной. Столько лет – многолюдье бараков осточертело. И поездки за дровами воспринимаю как счастливые подарки судьбы. Ехать надо 8 км. В общем, я блаженствую, если можно блаженствовать в моем положении. Точнее, я наслаждаюсь моментом.
Проехала уже больше половины пути, и вдруг лошадь моя резко встала, затанцевала, зафыркала. Я скатилась с саней и остолбенела. На дороге впереди лошади стояли нарты, в которые были впряжены 6 оленей – они улеглись на снег вокруг нарт. А мою лошадь держал под уздцы красивый парень, в унтах, в якутской парке. Оставив лошадь, он подошел поближе ко мне. И мы стоим, молча разглядывая друг друга. Он смотрит на меня с улыбкой, я – испуганно.
Молчание затянулось. Наконец, он, смеясь, спрашивает:
– Испугалась?
Что я могла ему ответить? Я кивнула головой.
Он подошел вплотную и сказал:
– Не бойся, не обижу.
Я ему почему-то сразу поверила. Спросила, куда он едет. Оказывается, он охотник и уезжает на всю зиму. Где-то в тайге у него есть избушка, зимовье. Припасы он везет с собой, а оленей пустит пастись до весны. А там найдет их и поймает.
Я посмотрела на нарты – они были высоко нагружены и увязаны по брезенту веревками. Я позавидовала ему, сказав, что он счастливчик.
Вдруг парень обнял меня как-то по-дружески за плечи, заглянул в глаза и сказал:
– Поедем со мной, девушка? До весны доживем, припаса хватит на двоих, а там – посмотрим, что делать дальше.
Я отшатнулась:
– Что ты парень? Я же с лошадью.
Он ответил, что лошадь завернем обратно, она сама дорогу на конбазу найдет.
У меня в мозгу все замелькало пестрой лентой. Понеслись картины прелести жизни в тайге с этим красивым парнем. Я вся загорелась ринуться с ним в неизвестность. Срока у меня было еще года четыре. Чего мне терять? Зону, барак? И вдруг – стоп! Мне же добавят за побег еще 10 лет, я же никогда не выберусь из лагерей.
Если бы я тогда знала, что через два месяца после моего освобождения умрет Сталин, и я так и так буду освобождена!
Но я этого не знала, и не думала о главном мучителе, а думала, что за миг счастья буду терпеть годы муки. И не согласилась.
Но парень настаивал. Ни я, ни он не спросили имен, но он нежно стал меня целовать в губы, в щеки. Между поцелуями уговаривал, склонял, даже тянул за руку к нартам. Время шло. А мы стояли и говорили. Но договориться не могли. Я окончательно пришла в себя и соврала ему. Я соврала, что мне осталось отбывать четыре месяца, а добавят десять лет.
Этот аргумент был для него святым. Он сам отбыл как ЧСР (член семьи изменника Родины) десять лет. Ах, как он жалел. Он отпустил меня. Я подошла к своей лошади, поправила сбрую. Села в сани, свистнула. Лошадь застоялась и сразу взяла крупной рысью.
Он стоял и махал мне рукой. И вдруг он замахал двумя руками и бегом побежал за мной, крича, чтобы я остановилась. Я придержала лошадь.
Он догнал меня, слегка запыхался, но с улыбкой спросил:
– А звать-то тебя как? Я за тобой приеду. Ты какого числа освобождаешься?
И мне пришлось ему врать, врать, врать. Я врала не ради шутки, я врала, спасая себя от добавочного срока сначала, а потом от безысходности.
И мы расстались. Я гнала лошадь в галоп, чтобы наверстать упущенное время. В лесу погрузила все удачно, быстро и поехала обратно. Мне так хотелось еще раз увидеть этого Сашу. Но его не было уже на дороге. Только был примят снег, где лежали олени, да валялись два окурка махорочных закруток.
Несколько дней Саша стоял, как живой, перед глазами. Сердце тосковало. Потом в суете лагерной жизни образ его потускнел, а потом и вовсе забылся. А годы мои тогда были молодые. Пора, давно пора было замуж. Но все было отнято. Все. Лагеря подготовили мне мое проклятое, а иногда и сладкое одиночество до смерти.
Будьте вы прокляты, лагеря. Будь проклято прошлое. Ради чего все это было? Кому это было надо? 70 лет жили то те, то другие у кормила, у кормушки. А остальные? Кто погиб, кто обездолен. За что? С кого спросить? Не с кого. Одни воспоминания, одни воспоминания…
Есть с кого!
Да ведь есть же, с кого спросить. Есть с КОГО!
КТО создал – и поддерживал – такую жизнь? КТО построил лагеря и по приказу начальства стрелял в заключенных – таких же людей, как сам? КТО позволял лишать себя жизни, свыкаясь со своим рабским положением и целиком считая себя зависимым от «вождей»? КТО постоянно и неизменно обожествлял власть? Кто стонал от своих несчастий, хотя сам НИЧЕГО не делал для того, чтобы свое несчастное положение изменить? КТО заходился в экстазе, видя на трибуне очередного «вождя», и голосовал «как один» и кричал «одобрямс»?
КТО рвется к власти не для того, чтобы работать на благо людей, а чтобы улучшить СВОЕ материальное и социальное положение? КТО бьет себя в грудь, утверждая, что верующий, а сам нарушает первую и самую главную заповедь христианскую: «Не сотвори себе кумира, кроме Бога небесного?» Разве не говорено Христом – 2000 лет назад! – что «ПО ПЛОДАМ»? «По плодам их узнаете их…»
Ведь это НАША страна. Это НАШ дом. Это НАША земля. НИКТО не улучшит нашу жизнь, кроме НАС САМИХ.
Часть 8. Поздравляю, приехали! – «Пирамида–3»: повесть о «повести о «повести о повести»)
Страна чудес
Семь частей книги (не считая Вступления), написаны в 1990 году. Я считал своим долгом рассказать все как было, ибо ни публикация «Высшей меры» в сборнике через 9 лет после того, как была написана, ни даже выход самой «Пирамиды» в журнале «Знамя» в 1987-м, не дали НЕОБХОДИМОГО эффекта. Да, писем читателей я получил очень много и каких, но… Не мне надо было писать, граждане…
Документальная повесть «Высшая мера» была попыткой рассказать людям о том, что происходит в нашей стране, с нами. Чтобы мы перестали быть равнодушными свидетелями жестокости, хамства и тупости, которая вокруг нас. Чтобы уважали справедливость и закон. Чтобы поддерживали тех, кто вступает на борьбу со злом, иначе зло будет разрастаться, и жизнь наша никак не улучшится. Никто не улучшит жизнь, кроме нас самих!
«Высшую меру» в газете не напечатали по ТЕМ ЖЕ причинам, по каким произошло убийство мальчика на сибирской реке, а Клименкина осудили на смертную казнь без достаточных оснований тоже ПОЭТОМУ. А честную повесть мою об этом тоже приговорили к небытию все ПОТОМУ ЖЕ. И повесился один из свидетелей, и Каспарова посадили на восемь лет…
Вот и пришлось мне писать «Пирамиду»…
Эту повесть опубликовали достаточно быстро и в хорошем журнале – началась, слава Тебе, Господи, «перестройка» с «гласностью» заодно. Читательский эффект от повести был большой, но…
«Замалчивание» «Пирамиды» в средствах массовой информации и то, что меня как ее автора игнорировали представители не только властей, но в какой-то степени и сами работники журнала, а также «коллеги», еще раз подтвердило: большинство тех, кто добился хоть какой-нибудь власти, думает у нас не о благе людей, а исключительно о своем личном благополучии. Тут нового для меня не было, это наше родное. Хуже, гораздо хуже другое. Люди, читатели, писали мне, а не властям. Люди жаловались вместо того, чтобы ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ тех, кто по должности обязан им помогать. Они просили помощи у того, кто сам нуждался в помощи, сидя под грудой вопиющих писем с заткнутым ртом и связанными руками. Поддерживать меня нужно было ДЕЛОМ, сотрудничеством, а не новыми жалобами и просьбами. На что надеются те, кто лишь просит, но ничего не дает? Повесть моя вопила о том, что только мы САМИ можем улучшить жизнь свою. А страждущие читатели просили помощи У МЕНЯ. Не у правительства. Не у тех, кто нагло присваивал себе право унижать их, грабить, убивать даже. А у меня. Который столько лет бился над тем, чтобы хотя бы только опубликовать то, что написано не ради «бабок», не для ублажения жалкой своей гордыни, а для того, чтобы все ЗНАЛИ об этом. СМИ легко замалчивали вещь, которая так нравилась моим читателям, а они молчали. Они молча выстраивались в многомесячные очереди в библиотеках, а по поводу происшедшего обращались не к властям. А ко мне. Который и так, можно сказать, охрип от крика. Спокойно и потом читали мои статьи в газетах в 92-м, 93-м годах, когда новые власти растаптывали, расчленяли и грабили Родину. Интересно, что в связи со статьями никто мне даже ни разу не позвонил и не написал – так же, как – уверен! – и другим авторам подобных – вопиющих! – статей, призывавших народ опомниться, понять, ЧТО ПРОИСХОДИТ. Понятно, понятно… Граждане старались выжить. Поодиночке.
Именно после выхода «Пирамиды» и все с большей и большей уверенностью потом я, как никогда раньше, с печалью и горечью видел: народ наш хотя и страдает, но подчиняется покорно, несмотря ни на что. Это и есть следствие Пирамидальной Системы, которая издавна воцарилась в нашей стране – в умах и душах моих соотечественников. По-прежнему происходит то, что происходило когда-то на сибирской реке: тупые, жестокие, физически сильные убивают духовно развитых слабых, свидетели «благоразумно» не вмешиваются, а «специалисты» все это прикрывают, оправдывают, преследуя исключительно личные цели. Чтобы уцелеть самим. Кто виноват?
В 1990-м году время для публикации «Пирамиды-2» казалось весьма подходящим. Я стал искать место. И не находил. Я предлагал ее в разные издательства и журналы. От нее шарахались. Только в альманахе Чеховского общества с названием «Дядя Ваня» опубликована была ее последняя часть, «Украденная жизнь» (одна из 7-ми). Альманах выходил тиражом в 10 тысяч. В начавшемся в 90-х годах «литературно-публицистическом шуме» влияние альманаха было абсолютно ничтожным.
Но я пытался. Увы, пока безрезультатно.
В мае 91-го с моей «Пирамидой» произошло то, что, вероятно, должно было произойти, если принять во внимание ту атмосферу, которая в нашей стране воцарилась. В любом цивилизованном обществе это могло бы показаться чудовищным. Я же, честно говоря, не очень и удивился.
Еще не пришел к абсолютной власти Ельцин, еще не стало в порядке вещей своровать завод, республику или целую промышленную отрасль огромной страны, но воровать «интеллектуальную», художественную собственность уже было в порядке вещей.
«Пирамиду» мою наглухо замолчали в СМИ, то есть ее, а также и меня, ее автора, как бы и не было, а потому, тем более, почему бы и не воспользоваться тем, о чем вполне позабыли? И в «предпобедные» майские дни (накануне праздника Победы), а именно с 5-го по 7-е по Первой программе Центрального телевидения…
Впрочем, об этом событии лучше скажут официальные письма-статьи, которые я послал 8-го мая 1991-го года сразу в две газеты – серьезные «Известия» и довольно легкомысленный, однако весьма читаемый, популярный в народе «Московский комсомолец».
Начнем с «Известий»:
«Многоуважаемая редакция!
«Известия» были первой газетой, которая опубликовала колонку о моей повести «Пирамида», вышедшей в журнале «Знамя» в 1987 году (№№ 8-9). Это была заметка под названием «Пирамида и эстафета» за подписью В.Малухина (8 сентября 1987 г.). За что я очень благодарен. Кроме того, именно работник «Известий», известный публицист Юрий Васильевич Феофанов беседовал со мной на ту же тему, и эта «Беседа по прочтении рукописи» была опубликована в газете «Московские новости» в конце июля того же года. Моя признательность тем более велика потому, что «Пирамида», вызвавшая огромную читательскую почту (меня буквально завалили письмами) и читательский интерес (доподлинно известно, что очереди на ее прочтение в библиотеках достигали 150-200 человек), осталась практически незамеченной нашей литературной критикой. Мало того, мое имя, ранее довольно часто упоминаемое в прессе, вдруг исчезло из рецензий и литературных обзоров, хотя «Пирамида» и вышла отдельным изданием.
И вот – следствие столь странного замалчивания повести: с 5-го по 7-е мая 1991 года по Первой программе Центрального телевидения шел фильм «Адвокат», снятый по заказу Гостелерадио на студии «Ленфильм» Т.О. «Петрополь». Сценарий Игоря Агеева, режиссер Искандер Хамраев, консультант В.Заваруев. Сюжет фильма, его линии, повороты, действующие персонажи, порой мельчайшие детали событий и даже имя одной из главных героинь (невеста Светлана) в точности повторяют мою «Пирамиду». Слегка изменены только отдельные несущественные моменты. Я могу самым скрупулезным образом доказать это.
«Несущественные» моменты, тем не менее, довольно существенны, ибо социальный, гражданский накал моей повести заметно ослаблен в фильме. Судя по фильму, наши проблемы заключаются в том, что «кое-где у нас порой» встречаются преступники и внизу и наверху (которых, по словам главного героя фильма, «не достать»). Система же, которая, по моему глубокому убеждению, порождает беззакония и преступность такого рода, как бы и ни при чем.
Таким образом, у меня не только украден сюжет, со всеми его деталями и ходами, но с его помощью значительно искажена основная идея моего произведения.
В титрах же нет ни слова ни о «Пирамиде», ни о ее авторе. Не могу квалифицировать это иначе, как самый настоящий литературный грабеж.
Прискорбное заключается еще и в том, что я теперь не могу ни написать сценарий по собственной повести, ни передать право экранизации достойному, с моей точки зрения, сценаристу. Ибо теперь мой сюжет уже использован неизвестными мне людьми и без моего разрешения.
В цивилизованных странах за такие дела карают очень строго. Впрочем, и наше /цитирую/ «законодательство предусматривает следующие случаи, при которых выпущенное в свет произведение может быть использовано без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием фамилии автора, произведение которого использовано, и источника заимствования: – 1.Переработка произведения в новое, творчески самостоятельное, это не относится к переработке повествовательного произведения в драматическое либо в сценарий и наоборот, на что необходимо получить согласие автора и выплатить ему обусловленное вознаграждение…» /выделено мной – Ю.А./
Цитата приведена по «Словарю-справочнику автора», М. Изд. «Книга», 1979 г., стр. 39-40.
Фильм «Адвокат» призывает к борьбе с беззаконием, за нравственность. Можно ли безнравственными методами бороться за нравственность?
Мы все, пишущие, находимся под угрозой такого вот литературного бандитизма. Это не должно оставаться безнаказанным, и люди должны знать об этом.
Потому и прошу вас, если это возможно, опубликовать мое письмо.
С уважением
Ю.Аракчеев.
8 мая 1991 г.»
Наученный горьким опытом, я не был уверен, что письмо мое опубликуют. Хотя и передал его из рук в руки сотруднику газеты, позвонив ему из «проходной» по телефону. Он сказал, что «Пирамиду» мою читал и она ему «очень понравилась».
Для верности я тогда же отвез еще одно послание в «МК». Написано оно, естественно, в более легком ключе. Его я передал из рук в руки заведующей отделом, которая тоже как будто бы читала мою «нашумевшую» повесть.
К моему удивлению, «Известия» опубликовали мое письмо почти сразу, хотя с сокращениями. А «Московский комсомолец», узнав об этом, вытащил мою статью из уже набранной верстки, считая ниже своего достоинства «повторять уже сказанное»…
Увы, ровно НИКАКОГО эффекта от публикации в «Известиях» не было. Знающие люди говорили мне, что я мог бы добиться справедливой сатисфакции от сценариста Агеева и от Т.О. «Петрополь», но для этого надо было затевать судебную тяжбу, нанимать адвоката и платить ему такие деньги, каких у меня не было… Я все еще надеялся на публикацию «Пирамиды-2», в которой, несомненно, рассказал бы обо всем происшедшем.
(Забегая вперед, скажу: телевизионный фильм «Адвокат» еще несколько раз демонстрировали по телевидению, последние разы уже в новом тысячелетии. Как ни в чем не бывало…).
Проблеск…
Доблестный 91-й в России. Исторический 91-й. Поворотный?…
Мы с женой были у Дома Советов. В том Августе. Мы оба никогда раньше не видели сразу столько открытых, честных лиц. Просыпалась Россия?



