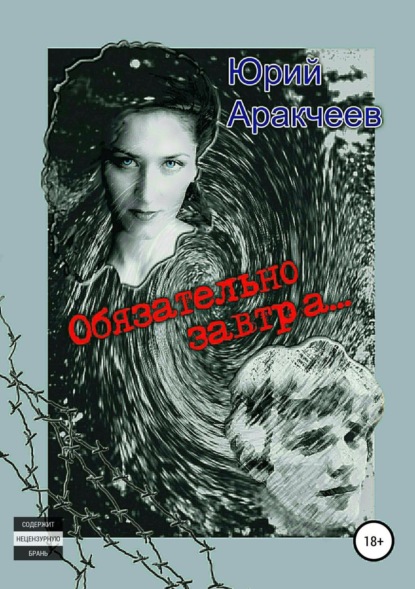 Полная версия
Полная версияОбязательно завтра
Все будет хорошо! Я напишу очерк, его напечатают в журнале, а там, глядишь, и рассказы пойдут, повести, и еще очерки и статьи. И дело, конечно, не только в Лоре, а в жизни вообще. Вот завтра и на самом деле большое собрание на Ленинских горах, во Дворце пионеров. «Актив» на тему борьбы с преступностью несовершеннолетних. Алик Амелин сказал, что там будет много известных людей. Будут у меня знакомства, будут материалы не только для очерков. Я верю, верю в себя!
18
«Актив». Великолепный новый Дворец Пионеров, огромный красивый зал…
Всеобщее возбуждение, несмотря на невеселую тему собрания, здесь многие, оказывается, друг друга знают – разговоры, приветствия, смех… Да и я ведь не просто на птичьих правах, а – корреспондент журнала, вхожий в Горком, с билетом не каким-нибудь, а №006, лично знакомый с Амелиным, который здесь явно один из заправил, от которого зависело, кого приглашать, кого нет… И действительно пришли уважаемые, известные люди, солидные пожилые мужчины и дамы – «Общественность»: Прокурор Москвы, Начальник МУРа, известные педагоги, артисты, спортсмены, генералы милиции в формах и военные генералы, но в основном все же молодежь, парни и девушки, комсомольцы-шефы, девушки есть симпатичные, одетые как на праздник – улыбки, блестящие глаза, и в зале даже песни стихийно…
Да, верю я, верю! Стараются они, на самом деле стараются. Есть ради чего!
И какая же это радость – убедиться, что ты не один, что так много хороших людей думают о том же, заботятся о том же, мы все, выходит, – одна семья, ну, уж теперь-то мы конечно, возьмемся как следует… Вот в чем преимущество нашего строя, социалистического – вот так, все вместе, в одном строю! Это не какой-то там капитализм, где человек человеку волк. «Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех людей» Всех!
И я оглядывался по сторонам в искреннем воодушевлении и радости: как хорошо здесь оказывается, как празднично, дружно и добро! Вместе! Одна семья…
Уселись – зал полон, – прозвенел звонок. Как в театре… Свет погас, раздвинулся занавес, и стал виден экран, а на нем титры фильма. Публицистический, документальный фильм, и называется он так – «Замки». То есть, запоры. С киноаппаратом по городу.
Большой замок крупным планом. Это – замок на воротах парка. Детского парка. Рядом – скучающие ребята. Еще замок, поменьше – у входа на карусель в парке… Сразу два замка, большой и маленький, камера отъезжает, поднимается выше, и видна вывеска: «Клуб». То есть «замкнутый» клуб. Огромный амбарный замок на воротах стадиона. Замки, замки. Запреты…
А в зале аплодисменты. Правда! Это действительно – правда! Все лучшее – под замком…
Опять детский парк, открытый. У входа – ларек «Пиво – воды». Толпа веселых мужчин. Среди них пробираются озабоченный мальчик и серьезная девочка лет семи…
Во дворе мужики лихо забивают «козла». Рядом на лавочке – внимательные дети… Так взрослые «воспитывают» детей.
Танцы в парке, весьма темпераментные. Над площадкой часы: без пяти одиннадцать вечера. Спать пора, а среди танцующих снуют ребятишки лет семи-десяти – пришли с родителями, которым хочется потанцевать…
Аплодисменты, аплодисменты и негодующий, взволнованный шепот в зале. Невеселые картины, печальные! Но – правда…
Магазин. Малыш в большой кепке тянется к вершине стеклянного прилавка. В руке у него – пустая бутылка и деньги. Какой-то взрослый помогает ему. Довольный малыш, прижимая поллитровку, торопится домой… К папе? Или к маме?
Экран погас, вспыхнул свет в зале, и грянули аплодисменты.
Все еще раз вспомнили, зачем здесь собрались, и в сознании важности дела и собственной значимости, переглядывались оживленно: «Хороший фильм, верно? Действительно, безобразие! Но мы возьмемся!»
Я сидел в одном из первых рядов, держа в руках наготове тетрадь и авторучку, воодушевленный, в сознании важности, нужности происходящего. И своего деятельного участия в нем. В передних рядах сидели еще журналисты.
Конечно, личные мои проблемы не ушли, конечно и тут ни на миг не оставляла все та же и та же боль, Лора, но… Как не ощутить тут причастность свою к всеобщему благородному делу, во имя которого собралось столько хороших людей! Да, мы – вместе, и мы – возьмемся…
На трибуне, около длинного стола президиума появился Алик Амелин. В этой обстановке он выглядел неэффектно: слегка сутулящийся, лысеющий, скромный. Хотя и не робкий. Он принялся медленно читать список президиума, приглашая его членов на сцену.
Большой и грузный начальник Московского Уголовного Розыска, знаменитого МУРа, при общем внимании и осторожных хлопках занял место за длинным столом одним из первых. Трехкратная чемпионка мира по конькам… Воспитательница, «комсомольский шеф» – рыжеволосая полная девушка, Лида Грушина, с которой предстояла мне встреча (о ней восторженно отзывался Алик Амелин)… Живой персонаж «Педагогической поэмы» Макаренко – крепкий крупный мужчина, теперь директор детского дома…
Почти без перерыва звучали аплодисменты, атмосфера в зале становилась все более оживленной.
Начались выступления, и первым зачитал что-то секретарь Московского Городского комитета комсомола. Он сказал, что фильм о замках, который мы только что видели, «закрытый» и не будет выпущен на экраны города. Это вызвало общий досадный вздох и множество возгласов: «Почему?! Почему?!» Секретарь только усмехнулся, но не ответил. А потом зачитал некоторые цифры о преступлениях несовершеннолетних. Невеселая картина…
И появился на трибуне начальник МУРа. Большой, уверенный в себе, в форме полковника.
Зал затих.
– Я, товарищи, много говорить не буду. Вот, значит, коротенькая справка. Секретарь назвал вам некоторые цифры, а я добавлю. Среди всех случаев преступлений подросткам принадлежит одна треть. Убийства, грабежи, драки с увечьями, изнасилования, угоны автомашин, наркомания…
В праздничном свете люстр все это звучало не очень серьезно, как на спектакле или в детективном романе, но в то же время чувствовалось: слушают его, затаив дыхание, с острым, щекочущим интересом. «Марихуана… план… морфий… сожительство девочек со взрослыми мужчинами…» Стояла напряженная тишина. Полковник чувствовал интерес зала. На трибуне большого и красивого собрания он держался, пожалуй, слишком раскованно, чуть ли не развязно.
Он закончил речь и сел под бурные аплодисменты – с облегчением переводя дыхание, аплодировали ему люди. И показалось мне, что тень брезгливости появилась вдруг на усталом его лице. Или лишь показалось?
Следом за полковником на трибуну поднялся второй секретарь одного из райкомов комсомола города, невысокий черненький паренек. Он взволнованно заговорил о том, как они в своем районе «нашли главный принцип работы».
– Пять ножевых ранений девушке нанес восемнадцатилетний парень, – возбужденно говорил черненький. – Девушка умерла. Мы расследовали этот случай. Совершенно ясно: можно было предотвратить. Ничего не стоило вмешаться – парень давно уже был на грани. Проглядели просто, вовремя не поинтересовались его судьбой, не помогли…
Он говорил о «детском приемнике», где держат подследственных несовершеннолетних, о том, как шефы-комсомольцы посетили этот «приемник», увидели ребят, остриженных наголо, бледных… Именно тогда поняли, как важна их работа. «Нам формализм мешает» – с горечью говорил выступающий.
Только на миг оторвался я от своей тетради. Огляделся. Проняло ведь, наверное, каждого – это не просто эффектные цифры, это – дело…
И тут…
С удивлением увидел я, что капитан милиции в форме рядом со мной снисходительно улыбается, насмешливо поглядывая на взволнованного выступающего. Два соседа впереди о чем-то беседуют вполголоса, с соседних рядов тоже слышался говорок, кто-то подал возмущенную реплику… В чем дело? Ах, ну да. Паренек критиковал «комсомольских шефов» за формализм и показуху, а в зале как раз много комсомольских «шефов»…
– Да, шефство себя не оправдывает, мы это хорошо поняли, – волнуясь, говорил паренек. – Задумано оно, может быть, и правильно, а вот с выполнением никак не получается, «галочки» только ставим. Заинтересованности истинной нет, на одной сознательности далеко не уедешь. А главное: оно не решает проблему, шефы занимаются частностями. А проблема, товарищи, очень серьезна! Но мы нашли принцип… Тут много можно говорить, но я коротко. Клубы нужно строить по месту жительства, много клубов. Ребятам вечером некуда пойти, нечем заняться, негде себя проявить – вот и отираются по подворотням. А вот если бы такой клуб, куда каждый может прийти…
Верно! Верно! – чуть не закричал я. Конечно, немедленно вспомнил Штейнберга – «Клуб Витьки Иванова», и «Суд над равнодушием» вспомнился, и идиотский РОМ с Рахимом и Шамилем во главе, и визит в редакцию к Алексееву… Дело говорит этот парень, дело! Обязательно встретиться с ним, вот же еще он, настоящий единомышленник!
– Строительство спортплощадок… Деньги нужно разрешить собирать с жильцов… Контакт с милицией…
Однако когда парень закончил и сходил с трибуны, аплодисменты были до неприличия жидкими.
– Выступает студент факультета Журналистики МГУ, внештатный корреспондент газеты, Геннадий Голиков! – объявил председатель, и из первых рядов партера выскочил молодой человек лет двадцати пяти. Легко, по-спортивному он взбежал по ступенькам на сцену, и его бледное храброе лицо показалось над трибуной.
– Извините, но я хочу рассказать про себя, потому что… Чтобы такое не повторялось!
Голос паренька прозвучал так взволнованно, лицо его было так искренне, что зал вздохнул с симпатией и облегчением. Интересно, о чем он?
– Я… Моя мать посмертно реабилитирована, – очень волнуясь заговорил парнишка. – Отец… Отца не помню. Когда началась война, мы эвакуировались из Москвы с теткой. Провинциальный город, в школе – скучища зеленая, тоска, рядом – улица. Конечно, теперь-то я понимаю, они – трусы! Воровская романтика – лживая! А тогда… Братство, товарищество, удаль лихих пацанов! Полет ангела при лунном свете, так мне тогда казалось…
Полет ангела? Интересно… Геннадий Голиков проглатывал слова, сбивался, но зал слушал с сочувствием и внимательно.
– В первый раз дали год за кражу. Я даже обрадовался – новые впечатления. 16 лет, романтика… Попал в воровскую колонию. «Воры в законе», не работали… Покатился по наклонной дорожке. Вышел через год и тут же опять попал – двух месяцев не прошло. С карманных краж перешел на квартирные – квалификацию повысил! Интересно… Поймали, десять лет дали опять… Работники МУРа убеждали, говорили: придешь к нам еще за советом. Не верил… А в лагере мы работали! На лесоповале, в тайге! Трудно – мошка, гнус. Уставали до смерти. Это ведь я впервые в жизни работал! Романтика труда – как у Джека Лондона! По настоящему работали. Я по две с половиной нормы выдавал, понял, что такое труд. Впервые в жизни ведь понял! Нужно искать работу, настоящую, свою… Труд – вот чего мне не хватало! Воровская жизнь – это не полет ангела при лунном свете, как мне казалось. Это – ложь! Я понял, наконец… Товарищи, неужели восемь лет жизни нужно выкинуть, чтобы это понять?! Со своей стороны я готов приложить все силы, я сделаю все, чтобы такие биографии не повторялись…
Вот уж тут – шквал аплодисментов. Полное единодушие зала! Романтика!
Объявили выступление девушки, комсомольского шефа – это ее роль, выходит, отвергал черненький? Но вот она идет выступать, пробирается между рядами, миловидная, очень женственная, стройная фигурка, да еще и мини-юбка, длинные ноги… Лет двадцать, не больше. Очаровательная, она поднимается на трибуну в своей тесной короткой юбочке, в белой блузке, под которой вздрагивают при каждом шаге высокие полные груди, а густые золотистые волосы ее уложены в кокетливую прическу. Это она – шеф? Как приятно…
Я смотрел внимательно по сторонам, видел оживленные глаза своего соседа, капитана милиции, улыбки других, кто поблизости. Ну да, ну да, как приятно – молодая, привлекательная девушка – и вдруг комсомольский шеф. Красота и женственность действуют безотказно!
Девушка заговорила грудным взволнованным голосом, искренне:
– Вот у нас был Саша Локтюшин, семнадцать лет… Вернулся из колонии, на работу не берут. Некоторым нравится ничего не делать, а ему работать необходимо, потому что…
Нежный, искренний, очень женственный голос звучал, как музыка, и люди, слушая, улыбались, хотя говорила она очень невеселые вещи.
Аплодисменты, аплодисменты…
Следующим, очень эффектным номером было выступление персонажа «Педагогической поэмы» Макаренко, бывшего беспризорника, а теперь вполне «перековавшегося», ставшего даже директором детского дома. Невысокий, бодрый мужчина моментально овладел аудиторией.
– Макаренко отдал время, здоровье, жизнь отдал он своей работе! Личную жизнь – тоже! У нас же учителя не пользуются всеми возможностями. Отработал «от» и «до» и ушел. Макаренко говорил: «я не дожил до такого разврата, чтобы пользоваться отпусками». Не дожил до такого разврата! Он ни разу не бывал в отпуске! А наши учителя как?
Бурно аплодировал ему зал…
Правда, он ни словом не обмолвился о том, какую зарплату учителя получают за свой труд и есть ли у них возможность «пользоваться всеми возможностями», и почему, собственно, идти в законный отпуск – разврат? Есть ли, кстати, учителя среди тех, кто в зале? – думал я уже с ощущением грусти. За что они так хлопают ему? Что конкретного, дельного он предложил? И почему так не хлопали черненькому пареньку? Неужели и тут – показуха? Как-то все уж очень театрально…
И тут произошло неожиданное.
– Выступает завсектором ЦК комсомола по пионерской работе товарищ Шишко! – объявил председатель.
Коренастый, энергичный человек, уверенно, по-хозяйски вышел на сцену и вдруг… начал браниться! Нет, он не произносил откровенно бранных слов, но тон его выступления был настолько безапелляционным, самоуверенным, не терпящим никаких возражений, хозяйским, рассерженным, что зал в недоумении замер. Зачем это он? За что? Портит праздник…
Послышались несогласные возгласы, и Шишко слегка сбавил тон. Но все же его выступление сильно отличалось от предыдущих. Было даже такое впечатление, что на сцену вышел персонаж «неперековавшийся» – только что из зоны, из лагеря. Поначалу даже трудно было понять, чего он хочет, казалось, он просто ругается, отводит душу, браня всех, сидящих в зале.
– Куда это годится?! – возмущался невысокий человек, голова которого едва была видна над трибуной. – Дали клич на целину – поехали дружно! На стройки коммунизма тоже отправились, работают хорошо! А вот с преступностью до сих пор никак не покончим! Почему же это? Ведь все условия для возникновения преступности у нас давно ликвидированы, так? А преступность – не хочется даже говорить – растет! Почему, спрашивается?! Плохо, очень плохо работаем, товарищи комсомольцы, вот что я вам скажу! Головотяпство, бездушие, формализм в нашей работе пока процветают. Да!
Самое интересное, что на самом деле этот человек был, конечно же, прав. Но вот тон и тембр его голоса настолько противоречили всему, что было на празднике до сих пор, что и действительно думалось: за что? Почему он издевается над благонамеренным собранием?
– Критиканство! Дача нарядов, а не самостоятельное выполнение – вот чем мы занимаемся с вами! – продолжал тем временем выступающий. – Боимся школу, как черт ладана!
На миг он замолчал но так, видно, понравилось ему сказанное, что, запнувшись, он повторил со смаком:
– Как черт ладана!
Хотя в зале послышались уже и негодующие возгласы.
– Вот у меня в руках, – продолжал он тем не менее, ничуть не смутившись, – результаты обследования одного из районов города. – И он выразительно потряс стопкой листков, которые словно по волшебству появились у него в руке. – Результат невеселый, я вам прямо скажу. Очень невеселый результат!
Он так произнес последние слова и так еще раз потряс листками, что было ясно: именно всех сидящих в зале, он считает главными виновниками того безобразия, которое происходит, и ему-то очень даже понятно, почему преступность, несмотря на ликвидацию причин, неуклонно растет! Зал негодующе шумел, а я ощутил некоторое удовлетворение даже. Хотя бы и под конец, но все же нелепый этот праздник был отчасти нарушен.
Тем не менее, приняли громкую, трескучую резолюцию – разумеется, единогласно! – а потом еще и «Обращение ко всем комсомольцам города» с призывом «усилить, пересмотреть, углубить»…
А когда выходили на улицу, над нами распахнулось такое ясное ночное небо со звездами, люди вдохнули такой свежий, прохладный весенний воздух, льдинки так звонко похрупывали под ногами – апрель, скоро настоящая весна!
И бодро шагали к метро парами, группами – вместе! Единомышленники, хорошие люди, занятые благородным, полезным делом! Новое здание Дворца Пионеров было таким красивым, и вокруг него тоже все так ухожено, чисто!
Неподалеку, правда, начинались обыкновенные дома, полутемные улицы вечернего города, редкие озабоченные прохожие, хмурые пассажиры в метро. Тускловато выглядела обычная жизнь после праздника…
Когда же я пришел домой, открыл свою комнату, увидел увеличитель и ванночки на столе, вспомнил все – и Штейнберга с его «клубом Витьки Иванова», которому, скорее всего, я так и не смогу помочь, гранки у Алексеева, возмутившие меня своей ложью, РОМ на общественных началах с Рахимом и Шамилем, девушку, у которой отняли ее дневники, Лору…
Ощущение безысходности, полного отчаяния, горечи вдруг прямо-таки навалилось. Ложь, все ложь! Праздник там был, во Дворце, нелепый праздник. Ясно же – показуха…
Боже, ну зачем они так упоенно, так дружно врут? Зачем этот пафос, театральность? От утренней бодрости не осталось и следа.
И все же взял себя в руки. Во-первых, тот черненький паренек – Силин. Я подошел к нему в перерыве и даже записал телефон, чтобы встретиться… Во-вторых, Алик познакомил меня с Лидой Грушиной, той самой «комсомольской шефиней», которая, по словам Алика, «воспитала парня, который родился в тюрьме». И, в-третьих, я решил обязательно побывать в ЦК у Шишко и попросить результат обследования района – те самые листки, которыми он тряс. Все это может пригодиться для очерка.
Очерк! – взбадривал себя я, несмотря ни на что. Не киснуть надо, а дело делать! Вот напишу, а там видно будет. Держись, дружище!
19
Лоре звонил на следующее утро, говорил спокойно и просто, и приятно удивил меня ее добрый тон, и все вечерние переживания показались не такими уж и серьезными. Что это я на самом-то деле?
– Олег, я не могу сегодня. Работа, понимаешь… – сказала она на предложение о встрече, но на этот раз ее отказ меня ничуть не обидел и даже не огорчил.
На самом деле, как я могу обижаться? На что? Разве я сам не занят? Ведь столько работы – очерк, рассказ, повесть, новая курсовая, фотография в детских садах… Ого-го! Зачем же часто встречаться?
– Тогда, может быть, завтра? – спросил спокойно.
– Позвони завтра что-нибудь в середине дня, ладно? – ответила она мягко. – Я попробую.
– Хорошо, обязательно позвоню, – пообещал я. – А ты постараешься освободиться, да?
Однако завтра она не смогла тоже, и я как-то легко согласился.
– А в субботу, послезавтра?
– Понимаешь, дома нужно убираться, Олежек…
Она говорила спокойно, добро, и я сказал, что можно ведь и в воскресенье, если она сможет. И был очень доволен хорошим тоном ее и собой – мужественным своим пониманием, доверием к ней, терпением. Своим спокойствием и уравновешенностью.
– Я сама тебе позвоню в воскресенье, ладно? – сказала она.
– Конечно, конечно, – ответил я с пониманием и заботой. – Я буду ждать. Часов в двенадцать, да?
– Ладно.
Погода совсем наладилась, каждый день теперь светило солнце, снег во дворе почти весь растаял. В воскресенье сидел над курсовой – подходил срок сдачи. Надо постепенно: сначала курсовая, а потом очерк и все остальное. Курсовая мне нравилась. Вот закончу, а с понедельника начну над очерком капитально.
Ждал звонка. Прождал часов до двух – выходил в коридор на каждый звонок – и понял в конце концов, что сегодня, видимо, у нее тоже дела. Оно и понятно: нельзя же вот так сразу на все рассчитывать, у нее ведь и до меня была жизнь. Мало ли что! Все наладится, все утрясется.
Хотя холод в груди уже появился.
Но я легко пережил в тот раз то, что она не позвонила – ничего похожего на прежний невроз. Никакой тревоги! И хотя весь вечер все-таки сидел дома – вдруг?… – лег спать, однако, спокойным, зная, что завтра буду звонить ей на работу сам. Все выясню и, может быть… Вообще завтра нужно обязательно хотя бы поговорить. Внести ясность. Если не сможет она на весь вечер, то хотя бы после работы. Полчасика. Ведь две недели прошло… С ума сойти – две недели!
В груди рос айсберг.
Но в понедельник легко дозвонился, и она вдруг неожиданно согласилась.
– Только не надолго, ладно? Давай там же, на скверике, где тогда? В пять. Ну, можно даже без пятнадцати. Только в половине шестого мне надо будет уйти.
– Так рано?
– Ну, в шесть хотя бы…
Тихо, тихо. Спокойно. О, Господи, только не волноваться. Главное, чтобы пришла, а уж тогда… В первый раз не считается, а уж теперь… Тогда и посмотрим.
Пришел к той же самой будке Справочного бюро ровно ко времени, она, к моему удивлению, тоже не опоздала. Вошли на бульвар, сели на свободную скамейку.
И – как будто не было двух недель, как будто не было моего сумасшествия, словно вчера только расстались.
Я спросил:
– Скажи, как ты ко мне относишься, Лора? Ты что, не хочешь со мной встречаться, да? Скажи честно. Ведь две недели прошло, а мы ни разу не виделись. Неужели ты не могла выбрать вечер? Ты что, не хочешь меня видеть?
Она потупилась и слегка покраснела.
– Я очень хорошо отношусь к тебе, Олег, ты не понимаешь, – сказала тихо. – Но я ведь действительно была очень занята. Очень. И потом… До тебя ведь тоже была жизнь. Нелегко так сразу перестроиться.
Я слушал ее с тихой радостью – она сказала именно то, что я и сам думал. А значит, все в порядке? Объяснение есть, вот и хорошо.
Я был в странном трансе, тело казалось невесомым, я как будто висел в пустоте рядом с ней. Боялся дотронуться до нее, боялся что-то разрушить.
Но радостно было видеть и слышать ее, я чувствовал, что она действительно расположена ко мне. Как приятно на нее смотреть, на ее яркое красивое лицо! Она густо красила ресницы, но это шло ей, а волосы были аккуратно уложены, густые черные волосы с синевой. Лучистые, пронзительно голубые глаза были добры, они, казалось, просто лучились нежностью, аромат ее духов, очень тонкий и нежный, обволакивал и пьянил. Собственно говоря, я впервые ее по-настоящему рассмотрел. На самом деле красивая. Очень.
Одно беспокоило: она казалась очень усталой. Я не видел той живости, которая пленяла на вечеринке. Но, может быть, это и лучше? Зачем игривость, кокетливость? Зрелая женственность, покорность. И доброта.
Она трогательно говорила о своей работе, о том, что ей очень трудно, что сейчас там действительно приходится проводить много времени, много сверхурочных, и она мечтает о том, чтобы найти другое место, получше. Деньги нужно зарабатывать, с деньгами совсем плохо. Она работает копировщицей. Я подумал: эх, если бы можно было помочь ей с работой или просто деньгами! Увы, сейчас я никак, но вот скоро напишу очерк, его напечатают, дела пойдут в гору, и тогда…
Мы оба вдруг замолчали.
– Слушай, может быть, поедем ко мне? – вырвалось у меня.
Она вздрогнула. Но ничего не сказала.
– Там лучше поговорим, – продолжал я спокойно, хотя сердце уже сорвалось с привязи. – Что мы сидим здесь, как неприкаянные? – добавил хриплым каким-то голосом. – Поедем, а? Мы просто посидим и поговорим. Там же лучше. Чаю попьем…
Она как-то испуганно посмотрела на меня.
– Это не входило в мои планы… Меня будут ждать.
В ее глазах появилось что-то такое, отчего у меня уж и вовсе дыхание перехватило.
– П-поедем, Лор, – продолжал я с трудом, запинаясь. – Хоть ненадолго. Пусть подождут. Хотя бы на час. Когда тебя будут ждать, в семь? А сейчас половина шестого. Что мы сидим с тобой здесь как… как чужие. Мы там будем говорить так же, как здесь, только…
Я уже почти не соображал, что говорю.
– Что «только»? – Она улыбнулась.
Я, кажется, покраснел. И опустил глаза. Сердце билось неистово.
– Ну, мало ли…
Она откинулась на спинку скамейки и устало посмотрела на меня.
– Знаешь, мне хочется поехать, если честно, – сказала спокойно.
– Вот и поедем, Лор, – обрадовался я и заторопился. – Поедем. Давай плюнем на все, а? У тебя что-нибудь серьезное?
– Муж, Олег, – сказала она просто. – Я ведь замужем, знаешь. Правда, мы с ним разводимся…
Этого я не ожидал. Муж? Антон говорил, правда, что она была замужем, но вроде бы развелась. Это удар, конечно. Но удар не сильный. Я был в таком состоянии, что даже и не почувствовал по-настоящему. Все это было далеким… Главное, что мы вместе. Это самое главное.



