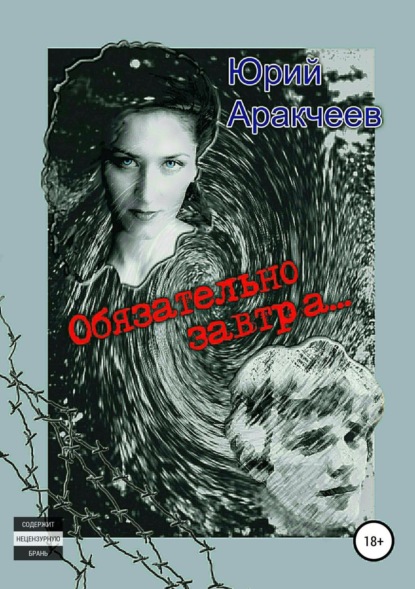 Полная версия
Полная версияОбязательно завтра
Я говорил негромко, я пытался вложить все свои чувства в эти считанные слова, напрягаясь, чтобы она поняла. Потому что и мне самому нужно было понять.
Она вздохнула.
– Я хорошо отношусь к тебе, Олег, – сказала. – Я очень хорошо отношусь к тебе. Но…
Она замолчала.
– Что – но? – не выдержал я.
– Но ведь до тебя тоже была жизнь… Не так легко сразу…
О, боже. Она ведь уже говорила мне это! Я вдруг разозлился. Ложь! Это привычка такая, ставшая уже натурой. Штамп. Прав Антон, права Анна Николаевна – слишком много врут! Врут и жалуются! И Лора тоже! Оправдания на все у них всегда есть! Я потому и поверил ей, что казалось: она искренна. Потому, может быть, и влюбился. Но теперь… Все простить можно, но только не ложь!
И я сорвался. Не стал сдерживаться. Что терять? Я начал говорить о том, что надо ведь все-таки что-то делать – хоть что-то! – нельзя же ведь все время ссылаться на обстоятельства и на прошлое – да, прошлое, я понимаю, но ведь если ты действительно «хорошо относишься», как ты говоришь, то надо идти ко мне, навстречу – идти, если что-то у тебя ко мне есть! И надо идти со мной, если уж мы договорились, как в пятницу, потому, что ты сама ведь сказала, что он тебе не муж, что ты с ним расходишься, что не любишь его! А если не хочешь со мной, то так и скажи, и не надо тогда этих «с тобой очень хорошо», «ты один меня понимаешь», «только за апрель?» «Относиться хорошо» мало, нужно еще что-то и делать. Обстоятельства, конечно, обстоятельства – он позвал, твой прошлый муж, как ты сказала… Ну и что? А ты? Ты-то сама где? Один позвал, другой позвал… Где ты была в тот момент, а? Ты, с достоинством своим человеческим, где была, а? Ведь ты же слово уже дала, час назад всего лишь! Так зачем же? Да и вообще… Ты сама чувствуешь что-нибудь вообще, желания у тебя собственные есть? Или так – кто перетянет, тот и возьмет? Так, что ли? Игрушка, да? Что же это, Лора? Ну, хорошо, ну раньше ты не могла, тебе все мешало, все ополчилось против тебя, бедной девочки, действительно: обстоятельства! С матерью, с семьей, и все другое. А теперь? Ты взрослая, здоровая женщина, красивая, живая… Ведь ты жива еще пока, верно? Руки-ноги есть, слава богу, глаза, голова. Ты что же, не можешь за себя постоять, совсем?! Ведь тебе хорошо со мной было, я знаю, ты не случайно ко мне пришла и не говори, что это не так, не поверю! Ты не случайно же выбрала меня из троих, и глаза твои, глаза-то все выдали! Ладно, хорошо, разочаровалась, допустим, пускай. Но тогда так и скажи! Хоть так, но – поступи же! Отказаться – это тоже поступок. Тебя за язык ведь никто не тянул в смысле признаний, вот и скажи то, что есть! А так…
Меня несло, я чувствовал, что не все правда в том, что говорю, что-то несправедливое есть в моем монологе при всей его правильности, но я не мог остановиться. Накопленное, наболевшее вырвалось сплошным потоком.
– А так ведь что получается? – продолжал я. – Ведь так получается, что ты сама себя предаешь! И меня тоже. Потому что ведь я к тебе отношусь серьезно …
– Не надо серьезно, – вдруг вставила она тихо.
– Что? Что ты сказала? – опешил я, не сразу поняв.
– Не надо серьезно, – повторила она. – Относиться ко мне серьезно не надо.
– Что?! Почему же это?
Почему-то именно это меня взорвало особенно, это было совсем уж никуда! И какое-то отчуждение, пренебрежение ко мне, даже насмешка почудились в тихих ее словах! Кролик, да?! Князь Мышкин, да?!
– Почему же не надо, Лора? – продолжал я по инерции все с тем же напором, но почему-то мягче, все-таки чуть-чуть мягче. – Почему же, черт побери, не надо?! Вообще ничего серьезного, да? Так что ли? Все теперь, да, все? Аминь, да? «Сегодня здесь – завтра там»? «Куда дунуло – там и плюнуло» – так, что ли? Ведь я же тебе навстречу иду! Но нельзя же ждать от меня всего на свете. Как от других, нельзя только ждать, надо же и самой тоже. Надо же что-то делать! Ведь если ты сама не захочешь – бесполезно все, ну как же ты этого не понимаешь?! Да, дома у тебя не в порядке, с мужем не заладилось, на работе трудно, ну и что?! Думаешь, всем остальным очень легко? Думаешь, например, мне легко очень, да? Но вот, к примеру, только к примеру, у меня же есть комната, и я…
– А что, комната – это сейчас такая редкость? – спросила она и посмотрела на меня как будто бы даже с издевкой.
И стало тихо. Я стал тихим. Не ожидал. Я еще ничего не понял, но вконец растерянный, замолчал. О чем она? Причем тут? Она что, ничего не поняла?
– Слушай, Лора, в чем дело? – сказал я тоже тихо, в полной беспомощности, дико страдая. – В чем дело, скажи мне! Я ничего не понимаю… Может быть, я ошибаюсь, может, действительно говорю что-то не так? Может быть, я какой-то ненормальный, не от мира сего? Князь Мышкин из Достоевского, да? Я что – совершенную чепуху несу? Ну, хорошо, ну, ладно, может быть, я насчет твоего отношения ко мне навыдумывал, все это себе навоображал. Хотя ты сама говорила… И все-таки, Лора, милая, не могло же ведь у тебя так быть с каждым. Что, так же вот – с каждым? И это – «с сердцем могло быть плохо», и – «кроме тебя у меня нет никого», и – «только за апрель?» Так, да? И – «никогда ни с кем так не было»… Ведь ты же сама говорила! Ну, скажи, ну, неужели то, что было у нас – это так просто? С каждым?
– Нет, Олег, почему же. Мне было с тобой хорошо…
– «Мне было с тобой хорошо»! О, боже, «мне с тобой хорошо»! Прекрасное выражение, исчерпывающее. «Мне с тобой хорошо»… Если тебе со мной хорошо, то…
И я опять замолчал. Замолчал потому, что почувствовал пустоту рядом, совершенную пустоту. Она сидела почти вплотную ко мне, чуть склонившись и слегка отвернув лицо. Но она не понимала, не понимала меня, не хотела понять. Не слышала. И я перестал ее чувствовать, ощущать.
Сидели тихо, рядом, но ее словно бы не было рядом, она как бы оделась в стеклянную пленку, я узнавал и не узнавал. Мне вдруг захотелось взять ее за плечи и трясти. Ты где, Лора? Ты где?! Но я понимал: бесполезно. Все бесполезно! Что-то совсем нарушилось. Что-то не то! Я все же взял ее руку, ее длинную белую нежную кисть, и эта рука была знакомая, родная мне как будто бы, но она была такой безвольной и слабой сейчас, она едва ответила на мое пожатие. Хотя и ответила все же… Господи. Ну что же это такое!
– Слушай, Лорка, мне кажется… – Начал я опять с трудом. – Слушай… Неужели мы с тобой разойдемся вот так, мне просто не верится. Что же: и это – все? Ведь было же у нас, было! Я же к тебе… Ну, хорошо, ну, что ты-то думаешь обо всем этом? А? Скажи…
Она вздохнула и, не глядя на меня, сказала:
– Не знаю, Олег. Мне кажется, что не нужно серьезно. Ты и так мне уже слишком дорог. Я не хочу этого, понимаешь? Не хочу, правда.
Я вздрогнул. Мне как-то жутковато стало, непонятно, от чего.
– Дорог? Я тебе дорог? Но почему же тогда «не нужно»? Почему?!
– Я не хочу. Не смогу. Лучше, чтобы все было по-старому. Не всерьез. Я привыкла. Ты только расстраиваешь меня и напрасно тревожишь. Бесполезно это все. Ничего хорошего не получится. Мне двадцать шесть, не забудь. Я устала. Я хочу ребенка, понимаешь? Семью настоящую. Ну хоть какую. Мне бы чего-нибудь попроще теперь. Обыкновенного чего-нибудь. Самого простого. Ты вот говорил, о преступниках очерк будешь писать, по милициям ездишь? Да?
Она подняла глаза и со странной какой-то улыбкой посмотрела на меня. У меня мурашки побежали по телу.
– По милициям? По тюрьмам? – повторила она, выражение ее глаз было диким каким-то.
– Что ты говоришь, Лора… Причем тут? – проговорил я тихо, хрипло и почему-то испуганно.
Меня била дрожь. Почему она так? Что она хочет сказать?
– Ну, что ты! Не думай так уж слишком-то, – спокойно сказала она и усмехнулась. – Я знаю, что ты подумал. Не надо. Преувеличивать тоже не надо. Не пугайся. Я пока еще не там. И не была. Но… мало ли… Мы ведь все… Как бы это… Вот одна моя подруга, например, представь себе, там… За что? Не за то, что ты думаешь, нет. Обыкновенное воровство, всего-навсего. – Она опять усмехнулась и посмотрела на меня с издевкой. – А ты думал, за что?
Некоторое время просидели молча. Я никак не мог унять дрожь – тело у меня вздрагивало каким-то волнами.
– Поеду сейчас к подруге, – сказала она, наконец. – Одна она у меня осталась. Близкий мне человек…
Она вздохнула. Как-то совсем неприятно вздохнула. Отстраненно…
– Лорка, что ты говоришь. А я? Ты про меня забыла? За что ты так на меня? Ты что – мне не веришь? Я – ведь…
– Нет, почему же. Верю. А чем ты можешь помочь? Ну, чем? На работу устроить? На какую? Сторожем? Продавцом? Секретаршей? А может – посоветовать что-нибудь? Правильное посоветовать, да? Воспитывать будешь с комсомольским задором? Ты случайно не комсомольский работник?
Вдруг она как-то обеспокоенно оглянулась. Я тоже.
К лавочке приближался интеллигентный, хорошо одетый молодой человек в очках.
– Здравствуй, – сказал он Лоре.
– Здравствуй, – кивнула она приветливо. – Подожди минутку, я сейчас. Садись…
Она показала ему на место на лавочке рядом с собой.
Я мельком взглянул на часы: пять минут пятого. Ясно.
Молодой человек очень вежливо – на самом деле вежливо, чувствовался интеллигент, – отказался, сказав, что подождет. И отошел.
Я не успел еще все осмыслить, сказал только:
– Хорошая у тебя подруга…
Лора ничего не ответила. Я взглянул на нее: она чуть не плакала. «Этот баллон у него уже лежал спрятанный, – вспомнились почему-то слова Бекасовой. – Он его раньше украл и припрятал. На всякий случай…» Чепуха какая-то, при чем тут…
– Что ж, ладно, – пробормотал я, вставая. – Не буду вам мешать. Пойду. Мы и так с тобой время просрочили. На целых семь минут! До свиданья.
Сделав через силу пару шагов, я вернулся и сел опять.
– Слушай, – сказал. – Может, мне все-таки… поговорить с кем-нибудь. Я, правда, не очень в силе, но… ребята знакомые есть. Хочешь? Насчет работы.
Я говорил как-то не совсем внятно, язык плохо слушался.
Она молча смотрела. Потом покачала головой.
– Не надо, Олег. Не стоит. Зачем?
Я и сам понимал, что не стоит. Что я могу? А все-таки продолжал:
– Ну я поговорю. Не понравится – откажешься. Сама посмотришь. Я тогда… позвоню. До свиданья.
Заставил себя встать и пойти.
41
– Ну, как дела? Принес очерк?
Алексеев смотрел на меня с доброй улыбкой и, как всегда, чуть покровительственно. Не в первый раз я подумал о том, что он ведь старше меня всего лет на пять, а держится так, словно в отцы годится. Положение обязывает! Вернее – позволяет.
– Нет, Иван Кузьмич, не принес пока, – ответил я, впервые, пожалуй, так сухо и с некоторым отчуждением даже, отчего Алексеев с удивлением посмотрел на меня. – Материала у меня очень много, – продолжал спокойно, – напишу быстро, за этим дело не станет. Но мне все же хотелось бы знать поточнее, чего вы от меня ждете. Я ведь уже и в ЦК комсомола был, и на Активе по борьбе с преступностью, и в прокуратурах, и даже в тюрьме, в Детском приемнике позавчера. Понимаете, материала даже слишком много, проблема в том, чтобы выбрать. И в каком ключе. Вот я и пришел для этого. Поговорить. Проблема серьезная.
– Так, – сказал Алексеев, и лицо его потеряло лучистость. – Так. Но ведь мы же с тобой уже столько раз говорили. Нужен проблемный очерк. О преступности несовершеннолетних, и все. Ты разве не понял? Вернее даже не о преступности, а о борьбе с нею. Положительные примеры нужны! Да, ты ведь говорил, что нашел шефиню какую-то, которая парня перевоспитывала. Вот и отталкивайся от этого хотя бы, это годится. Но главное побыстрее. Времени вон сколько уже прошло!
– А тот материал, Иван Кузьмич…
– Какой? Твой первый очерк?
– Нет, тот, что в гранках был. О «Суде над равнодушием». Он что, идет?
Алексеев еще больше погрустнел.
– Нет, старик. Тот материал зарубили. Ребята-насильники, к женщине с ножом… Да еще и улица Гарибальди. Частный случай, а вроде как обобщение получается. У нас такое никак. Мне-то нравится, но вот зам главного не пропустил. От тебя тем более теперь требуется, сам понимаешь… По-умному как-нибудь. Показать, какую роль в этом деле может сыграть комсомол, что ли.
Он энергично поскреб бороду и посмотрел на меня испытующе.
– Тебе не обязательно в плену факта быть, ты можешь что-то домыслить, поразмышлять. И растекаться по древу не надо. Фамилии – не суть, их изменить можно. Но нужно идти от положительного примера, это обязательно. Раз материала у тебя много, как ты говоришь, значит найди. Да что там в конце концов! Домысли! Можно и пофилософствовать, если хочешь. Но в меру, конечно, сам понимаешь. Вообще-то время сейчас для такого очерка – самый раз. Можно выстрелить по-умному. Постарайся. Ты ведь сможешь, если захочешь.
Лучистость вернулась на его лицо. И тон вернулся.
– А как с моими рассказами? – спросил я все-таки.
Алексеев опять погрустнел.
– Вряд ли, Олежек. Я предлагал на редколлегию, но ничего не выходит. Я тут не при чем. Мне-то все нравится.
Он грустно помолчал, вздохнул тяжело.
– Дураков у нас много, Олег, вот беда! Ничего тут не поделаешь. А в тебя я все-таки верю! Затянул ты с этой темой, не получается у тебя, но я все равно верю! Что-то в тебе есть… Может, тебя на какую-нибудь комсомольскую стройку послать? Хочешь? Попробуй все же сначала написать этот, попробуй начать, а потом поедешь. Я ведь тебе и раньше предлагал. Понимаешь, Олег, нужно тебе по-настоящему окунуться в жизнь. Во всякую. В стране сейчас много и хорошего делается, не думай! На Братскую ГЭС поезжай, в Якутию, в Сибирь куда-нибудь, да мало ли!
Он опять становился энергичен и бодр, руки его машинально что-то перекладывали на столе.
– Что ж, ладно, – сказал я, вставая. – Подумаю, Иван Кузьмич, спасибо. Позвоню тогда. Или очерк принесу. Сколько времени вы мне даете?
– Да ведь… Давно бы надо уже. Позавчера еще. Ну, неделю еще можно подождать, а вообще-то чем скорее, тем лучше.
Он, глядя на меня, улыбался.
– Хорошо, – сказал я. – До свиданья.
42
Так значит, все бесполезно? И человек не меняется, вернее – меняется, но в одну только сторону и коченеет в беспомощности, умирая душой, хотя и носит еще какое-то время на костях свое безвольное тело? – мучительно думал я, отчетливо чувствуя уже тогда, что ничего у меня не получится с журналом. Я – другой. Я не приспособлен к этой жизни и приспосабливаться не собираюсь. Это – не жизнь. Это подневольная служба и бессмысленная, вот в чем дело. Да, неплохие материалы бывают в журналах, да, Алексеев неплохой человек, но он ничего настоящего не может сделать в существующих условиях, как и я, видимо. Ложь господствует. И радости никакой.
Я не мог забыть «Хеппенинг в белом». Это – правда. Я верил, что в нем – правда. И – можно летать. Причем не только на дельтаплане. Трусость и ложь, словно клейкая слизь, связывают крылья наши, превращают их в безвольные культяпки, отнимают веру и делают хороших людей ничтожными. Может быть, пингвины – это ленивые и трусливые альбатросы? Но они хотя бы научились плавать… Да-да, мы в своей стране тоже умеем плавать, только не в море. В грязи.
Я помнил. Помнил, как воспитывала меня сестра. Да, история с ножом была отвратительная, но были ведь и другие истории. Совсем другие были моменты. Однажды нужно было написать школьное сочинение, а я не успел, и был уже вечер, а завтра нужно нести, я же не написал ничего. «Соберись, – сказала сестра. – Выпей крепкого чая. Облейся холодной водой. И – пиши. У тебя целая ночь. Можно и не доспать, если надо».
Да, это было трудно. Глаза слипались. Я цепенел в отвращении к теме сочинения – «Положительный герой в советской литературе». Можно было выбрать Шолохова, Николая Островского или еще кого-нибудь. Я и выбрал Островского «Как закалялась сталь», образ Корчагина. Я уважал героя, но ненавидел его за то, что вынужден теперь сидеть над тетрадью и что-то выдавливать из себя, а потом еще и переписывать набело. И главное – зачем? Кому это нужно? Ради закорючки в классном журнале? Но сестра не отставала, она стояла у меня над душой, она взывала к моей совести и достоинству, она утверждала, что это нужно прежде всего мне самому. Да, можно было поступить очень просто – спокойно лечь спать, а завтра сделать температуру (я это умел) и вызвать врача на дом. «Зачем? – возражала сестра. – Все равно ведь писать придется. Зачем унижаться? Отделайся, и совесть будет чиста».
Она сказала «достоинство» – это слово, наверное, и сработало в конце концов. И я написал. Скрипел зубами, ругался про себя, но писал. Под конец мне даже нравилось, что пишу. Я ведь уважал и Островского, и Павла Корчагина, на самом деле уважал – они не лгали. И это поддерживало меня. Закончил в три часа ночи.
И получил пятерку за сочинение!
Это был не единственный такой случай. И за это я благодарен сестре на всю жизнь. При всем, при том, что много в сестре было и такого, что мне абсолютно не нравилось. Человек сложен – главное, понять лучшее в нем и ценить.
Потом я влюбился в книги Джека Лондона. И особенно в «Мартин Иден». Вот кто умел работать – моряк Март Иден, ставший в конце концов знаменитым писателем! Да, за все нужно платить в жизни. И прежде, чем научишься чему-то – набьешь шишки, от них никуда не денешься. Но зато и награда щедрая тому, кто не боится. Ничто не приносит такой радости, как умение хорошо делать что-то! Но очень важно не сдаваться и идти дальше, потому что результат редко бывает сразу. И чтобы взлететь, придется оторваться от земли. Вот бабочка, например. Сколько времени проводит будущее порхающее создание в стадии толстой неповоротливой и беззащитной гусеницы! А потом еще в стадии куколки повисеть или полежать где-то. Но зато потом…
Правда, что касается Мартина Идена и автора романа, самого Джека Лондона… Март Иден, стал-таки известным писателем, настоящим писателем, но… Слишком противно было ему в мире лжи, где все продается – и он покончил с собой. Добился, но покончил с собой. Судьбу своего героя повторил потом и сам автор, Джек Лондон, увы. Но ведь это было в капиталистической стране, где главное не жизнь человеческая, а деньги, то есть ложь – вот он и не выдержал! Устал, потерял веру в жизнь… У нас тоже много лжи, но главное в нашей стране все же не деньги, главное – ценности человеческие: дружба, любовь, сочувствие, совесть… Есть, ради чего трудиться!
Так что же мне делать с очерком? И вопрос: есть ли смысл стараться угодить Алексееву?
Написать что-то по его просьбе можно, конечно, но душа не лежит. Если бы проблема была не такая серьезная – другое дело. И потом. Совершено ясно: что даже если я напишу так, как хочет он и как «нужно журналу», и даже если в принципе примут мою работу, то уродовать начнут все равно. Это неизбежно, у нас это принято. И я не смогу ничего сделать – мое достоинство журналиста, мое авторство никто не примет всерьез. Так у нас повелось. «Для пользы дела» – этим они оправдывают все, что угодно, а в первую очередь холуйство перед начальством. «Польза дела» у них очень своеобразная. К тому же есть привычная для редакторов отговорка: «Иначе этот материал не пройдет». То есть не имеет значения, настоящий, достойный это «материал» или нет. Главное – «пройдет» он или «не пройдет», то есть будет он одобрен начальством или не будет. Значит, все решаешь не ты, не твоя совесть, достоинство, честность, талант, а – начальство?
Как раз незадолго до того я читал материалы «Нюрнбергского процесса», и особенно любопытным казалось мне то, что фашисты, которые создали гигантскую машину по истреблению людей и, в частности, печи Освенцима, Майданека, Треблинки, вовсе не считали себя виноватыми – они оправдывались тем, что выполняли приказы начальства. Главного начальника – фюрера! И вообще «работали на благо Великой Германии». Да, видимо, многие немцы делали все такое действительно искренне, они поверили в правоту Гитлера, в справедливость нацизма. А результат? Миллионы людей стали убивать друг друга, десятки миллионов погибли. «Великая идея» оказалась ложной, а жертвы бессмысленными. Выходит, что истина была не в приказах гитлеровского начальства, а в жизни? Но… Разобраться как?
И ведь не все попали тогда под власть «великой идеи». На том же Нюрнбергском процессе выступали свидетели, которые при Гитлере пытались бороться – они понимали преступность гитлеровского режима…
А у нас? Многие советские бойцы в Отечественную тоже умирали с криками «Да здравствует Сталин!». А в это же время в лагерях по всей стране с ведома Сталина, а то и по его прямому приказу сидели за колючей проволокой миллионы. И расстреливали свои своих «во имя идеи» тысячами. Большинство – невиновных… Теперь говорят: был «культ личности»! Некоторые утверждают: «Мы не знали…» Ну, а теперь?
Многие ли понимают теперь, что делают? Многие ли понимают, что нужно НА САМОМ ДЕЛЕ? Четко чувствовал я только одно: нельзя предавать себя! Трудиться нужно, лень свою и трусость преодолевать необходимо в любом случае, хотя, конечно, частенько именно это и есть самое трудное. Но ни в коем случае нельзя делать то, чего не позволяет тебе твоя совесть. Хотя ведь и это не всегда легко понять. Чего только ни внушают каждому из нас со всех сторон! Как разобраться, где твоя собственная совесть, а где чужая лукавая воля?
А еще не давали мне покоя свидетельские показания на суде против нацистов:
«…Мужчин, женщин, детей выстраивали в длинную очередь, заставив раздеться догола. Старшие утешали младших. Какой-то старик взял на руки маленькую девочку, показывал ей на небо и гладил по головке, утешая. Слышны были тонкие завывания женщин, кашель, и чавканье грязи от медленно переступающих ног. Периодически раздавалась короткая автоматная очередь. Череда людей двигалась к краю большого глубокого рва, в который вели земляные ступеньки. Совершенно обнаженные люди обоих полов спускались по этим ступенькам на дно, где уже сплошным слоем лежали трупы. Некоторые еще шевелились, слегка постанывали, на их серовато-белой коже, на волосах выступала кровь. Те, что спускались, осторожно ложились сверху и гладили тех, кто был еще жив. Но это длилось недолго, так как эсэсовец, сидевший на краю рва с автоматом, выпускал очередь, не целясь, со скучающим выражением лица. В зубах у него дымилась сигарета…»
То, что делали нацисты, было, конечно, чудовищно. Но особенно диким казалось мне даже не то, что творили они. А то, как послушно люди им подчинялись. Ведь в той очереди к Бабьему Яру толклись сотни людей, даже тысячи. До какой же степени рабского послушания были доведены они, если ЗНАЛИ, что будут расстреляны, – ВИДЕЛИ, что делают эсесовцы! – и все-таки шли послушно! Даже соблюдали порядок в очереди! И – умирали. Умирали организованно! Как покорные овцы. Нет, хуже. Овцы наверняка отчаянно блеяли бы и вряд ли бы соблюдали порядок. По крайней мере пытались бы разбежаться. И уж никак не «утешали» бы друг друга, не «осторожно ложились сверху» и не «гладили бы» тех, кто был еще жив.
Что же есть в нас такое, что заставляет безоговорочно подчиняться даже тогда, когда мы видим: подчинение несет гибель?
43
…Перед самыми праздниками позвонил Виталий. И пригласил на рыбную ловлю на праздники. Он сказал, что Жанна с нами поехать не сможет, но можно вдвоем. Это ведь лучше, чем просто где-то сидеть за столом, правда? Конечно! Вот и поговорим, подумал я еще. Виталий умный парень, стоит к нему прислушаться. Он мне поможет…
Встретились на вокзале рано утром. Было ясное, свежее утро первого майского дня. Уходя, я оставил комнату, где стоял на столе увеличитель и ванночки, а на полу растворы в бутылках. И пачки фотобумаги лежали стопкой, и выпрямлялись под прессом напечатанные только что фотографии. А на другом столе лежали тетради с записями. Ничего, на два дня имею право уехать! Главное все же – решить, как поступать с очерком. Трезвая голова – самое главное.
Я запер дверь и вышел на улицу – словно вынырнул из тусклой и мрачной глубины на поверхность, к солнцу. Я дышал полной грудью, наслаждаясь короткой свободой, и рад был встретить улыбающегося Виталия. Мы взяли билеты, сели в электричку, поехали…
За окнами плыли сначала дома, потом маленькие дачные домики, наконец, кусты и деревья, весенняя, просыпающаяся земля, голубое небо и солнце. Сначала мы с Виталием просто смотрели в окно и друг на друга, улыбались, ловили солнечные лучи, любовались зеленой дымкой распускающейся листвы на деревьях… Потом слово за словом начался разговор. Виталий спросил о чем-то, я ответил. Был еще вопрос и еще ответ, а потом прорвалось. Тут уже я не мог удержаться. Столько накопилось, так мучило, так нужна была ясность, определенность хоть какая-то, так необходимо было разобраться, понять!



