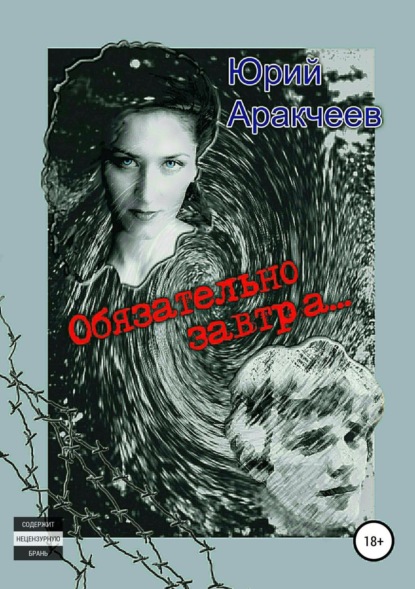 Полная версия
Полная версияОбязательно завтра
«Ну как?» – взглядом спросила меня Раиса Вениаминовна.
«Ничего себе», – ответил я тоже взглядом.
– Ну, мы с вами, Гаврилов, уже говорили, надо только кое-что уточнить. А вот – товарищ из Горкома комсомола. – она кивнула в мою сторону. – Он хотел бы тоже кое о чем спросить.
Главарь шайки снисходительно посмотрел на меня.
– Тебя зовут как? – спросил я дружески, желая наладить контакт.
– Александр, – многозначительно произнес Гаврилов.
– Так вот, Саша. Зачем вам магнитофоны нужны были, ты объясни? – спросил я.
– Как зачем? Музыку слушать. Хорошую, а не барахло. Интересно.
Я доверительно наклонился к главарю шайки и сказал следующее:
– Понимаешь, в Горкоме думают, как вам помочь. На самом деле помочь. И с музыкой тоже. Ты в этом деле разбираешься. Скажи, что нужно сделать? Какие у тебя предложения? Что бы ты посоветовал?
Гаврилов, совершенно игнорируя меня, по-прежнему барабанил пальцами по столу и смотрел на следователя.
– Раиса Вениаминовна, когда суд, а? – решительно спросил он. – Надоело!
– Ты отвечай на вопросы, Гаврилов! – оборвала его Раиса Вениаминовна. – Отвечай, когда спрашивают!
– Стандартные вопросики, – бросил он небрежно, но все же обратил на меня свой взор.
– Ты чем-нибудь еще занимаешься, кроме учебы? – спросил я. – Увлекаешься чем-нибудь?
– Он футболист, – подсказала Раиса Вениаминовна.
– Да, футболом занимаюсь, – согласился Александр. – Иногда. Да бесполезно все это! – опять не выдержал он. – Разговоры одни!
– У вас еще есть вопросы? – вежливо спросила меня Раиса Вениаминовна.
– Так вот, Саша, – решил я попытаться еще раз. – Я на самом деле спрашиваю, серьезно. Что нужно сделать, чтобы вам магнитофоны не хотелось воровать? Может быть, клуб какой-нибудь? Спортплощадки? Как ты думаешь?
– Да что там клуб, клуб. Бесполезно это все. Пустые слова. Не верю я. Разговорчики у вас одни… Раиса Вениаминовна, ну так когда же суд, а?
Раиса Вениаминовна, не отвечая, выжидающе смотрела на меня.
– Ладно, – сказал я. – Тогда все.
– Суд скоро, Гаврилов, только, боюсь, он тебе радости не много принесет, – с досадой сказала Раиса Вениаминовна. – Иди. Вызову, когда надо будет. Гуцулова позови.
– Ну, как? – спросила она, когда Гаврилов вышел, отвесив напоследок насмешливый церемонный поклон нам обоим. – Фрукт, правда? У него кличка есть – «Псих». Ребята его боятся до смерти. Говорят, он одного парня так избил, что тот едва выжил. А все же не выдал его, и никто не донес. Мы только сейчас узнали.
– А дома как у него?
– Отец районный деятель, крупный, я его несколько раз вызывала. Не явился пока. А мать, по-моему, сама своего сына боится… Вы спрашиваете, отчего преступления. Так он же ведь, Гаврилов этот, никого, кроме себя самого, «в упор не видит» – так они выражаются. И это при том, что в школе неплохим учеником считается. Разглагольствовать он умеет! Да и способности есть – от природы даны. Английский знает – папаша научил. А за душой ничего нет, вместо сердца – пустое место. Кому он нужен, его английский? Родители избаловали. Единственный сынок ненаглядный. «Сашенька, бери то, Сашенька, возьми это, Сашенька, чего ты еще хочешь?»… А про душу Сашенькину забыли. И теперь вот ненаглядный в тюрьме окажется. Догляделись! Думаете, такого жалко? Такому поработать – одно лекарство. Но он ведь, негодяй, и в колонии приспособится, да еще папаша поможет. Еще не знаю, будет ли колония – папаша-то из больно влиятельных. Грозил уже мне по телефону, вежливо, так сказать, намекал. «А Вы, говорит, давно в этой должности работаете? А непосредственный начальник у Вас кто? А Вы, между прочим, учитываете, что у моего сына хорошие оценки в школе, что он в первый раз? Что же до материальной стороны, то я в дар школе японский магнитофон презентую…» «Материальной стороны»! Кроме этой стороны, он, похоже, ничего и не видит. Вот и сынок его такой же. Его – в тюрьму и по-настоящему надо! Чтобы прочувствовал. А еще лучше – в тайгу, на лесоповал. Вот и понял бы, почем фунт лиха… Сейчас Гуцулов придет, обратите внимание. Не ему чета. Земля и небо, совсем другой парень. Вот за кого обидно…
Вошел худенький темноволосый парнишка. На его лице застыло выражение тревожной внимательности. Он вежливо поздоровался и осторожно сел, когда Раиса Вениаминовна ему предложила.
– Вот, Олег, это товарищ из Горкома комсомола, он хотел бы с тобой поговорить, – сказала Раиса Вениаминовна, ободряюще глядя на него. – Расскажи, как было. Почему ты пошел с Гавриловым? Ведь ты сам сказал, что раскаивался потом и больше не ходил с ним ни разу – вы даже поссорились, по-моему, да? И почему ты не отнес магнитофон в милицию или обратно в Красный уголок – ведь он целую неделю лежал в сарае и ржавел? Ты же ведь все равно не взял его к себе домой.
– Это было бы предательством, – серьезно и тихо сказал Гуцулов. – Я предателем никогда не буду.
– Ну какое же это предательство, дурачок? Ну, ладно, хорошо. А почему ты в первый раз пошел с Гавриловым, зачем тебе было нужно?
– Не мог не пойти. Мы дружили. Он мой товарищ был.
– Ну вот, видите, – вздохнув, сказала Раиса Вениаминовна, обращаясь ко мне. – Хорош товарищ!
– Олег, а ты вдвоем с мамой живешь? – спросил я своего тезку.
– Да. – Тот встрепенулся и всем телом повернулся ко мне. – А что?
– Почему ты не учишься?
– Учился…
– Ну, а тебе нравится эта специальность, по честному?
– По честному, нет.
– Он в Морское училище мечтал поступить, – вставила Раиса Вениаминовна.
– Ну, и что же? – спросил я.
– Так. Не получилось. – Он потупился. Руки его никак не оставались в покое.
– Значит, ты сейчас не работаешь и не учишься, так?
– Так.
– А ты пробовал устроиться на работу?
Гуцулов презрительно фыркнул:
– Сколько раз!
– Не берут?
– Не берут.
– А ты на самом деле хотел бы работать где-нибудь? Тебе это сейчас особенно нужно, ты ведь понимаешь.
– Да, Олег, – подтвердила Раиса Вениаминовна. – Тебе это обязательно нужно сейчас, до суда. А то ведь неизвестно, как повернется.
– Я знаю, Раиса Вениаминовна, – серьезно согласился Гуцулов.
– Слушай, я постараюсь тебе помочь, – сказал вдруг я, вспомнив о Варфоломееве и Силине. – У меня есть знакомые в райкоме комсомола, не знаю, конечно, в их ли это возможностях, но если в их – они сделают. Я им позвоню.
Раиса Вениаминовна просияла:
– Ну, вот видишь, Олег… Спасибо Вам большое. Жалко парня. Попробуйте, может, они сделают что-нибудь. У Вас, может быть, еще вопросы есть?
– Нет-нет, позвоню в райком, тогда уж и…
– Ну, иди, Олег, смотри только осторожнее, понял? Не натвори чего-нибудь…
Выходя, Гуцулов посмотрел на меня. Я тоже смотрел на него, на своего тезку. Он мне нравился. Ему нужна помощь. Необходима. Получится ли? Он, очевидно, видел уже во мне своего защитника.
Покинув кабинет Раисы Вениаминовны, я тотчас позвонил Силину. И попросил за Гуцулова.
– Он из какого района? – озабоченно спросил Силин.
И тут только я понял.
– Кажется, из другого, – сказал, уже все предвидя.
– Плохо, если так, – вздохнул Силин. – Мы попробуем, конечно, но твердо ничего обещать не могу. Варфоломеев придет, я ему расскажу. Позвоните вечером или завтра, ладно? Как фамилия этого паренька? Записываю…
Опять был яркий солнечный день. Просто великолепный. Я сел на лавочку у остановки автобуса. Что же, что же делать? Идут вокруг люди. Каждый со своим миром, со своей болью …
Я сидел на лавочке и мучительно соображал, что могу сделать сегодня еще.
30
– Сейчас пройдем в комнату воспитателей, – сказал Сергей Сергеевич Мерцалов, – там и поговорим, они знают, что вы пришли, а потом я вызову вам, кого захотите. А хотите – прямо в камеры. В общем, смотрите сами. Хорошо, что вы пришли, мы уже давно говорили и писали, и – ничего. У нас уже лет двадцать не было ни одного корреспондента, а, может, и больше, я так вообще не помню. Вы от какого журнала? От молодежного? Ага, понятно. Знаете, жалко ребят. Вы думаете, нам самим приятно все это? Есть, конечно, отпетые, а так все несмышленыши, им лет по шестнадцать-семнадцать, а туда же… Два-три года в колонии – вот вам и школа, они сами так и говорят, что школу проходят: двухлетку, трехлетку, семилетку. А после уже все, дело дрянь… Ну, вы сейчас сами посмотрите. Вот, сюда заходите…
– Здравствуйте.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Садитесь, пожалуйста, вот, сюда можно, за этот стол… Вот, товарищи, это журналист. Из журнала. И от Горкома комсомола тоже. Знакомьтесь.
– Ого, наконец-то! Спохватились-таки. Мы уже вас столько лет ждем! Статью писать будете? Нет? Очерк? Ага, ну все равно. Наконец-то, побеспокоились…
– Слушай, брось ты трепотню. Знаете, вы о чем напишите? Напишите, во-первых, что больше надо присылать корреспондентов, не стесняться и не бояться писать больше. Чего мы боимся? Америки, что ль? Так у них же у самих…
– У них у самих черт знает что делается!
– Да, вот именно, у них у самих…
– Да и у нас тоже, будь здоров!
– Так тем более, черт с ней, с Америкой, сколько на нее оглядываться будем? Надо у себя порядок наводить, а то скрываем, молчим все, а толку что? Знаете, что преступность за последние годы выросла? Она падать должна, а она растет, порядок это, нет? А нас так даже никто не спросит, нам, вот, приказ по должности: воспитывай! Сначала доведут парня до того, что он набедокурит невпроворот, а потом: воспитывай! Надо сразу воспитывать, с самого начала. Макаренко как говорил?…
Это был мой первый день в тюрьме, в так называемом «Детском приемнике» – для «несовершеннолетних правонарушителей».
Алик Амелин договорился с заместителем начальника тюрьмы подполковником Чириковым, и тот сказал, что я могу идти тотчас. «Захвати с собой паспорт и на всякий случай предупреди родных, понял? Ха-ха!» – весело подшучивал Алик.
Я позвонил Чирикову, и мы договорились.
Ах, какая же чудесная погода стояла в те дни конца апреля! Солнце вовсю хозяйничало на небе, снег окончательно стаял, улицы поливали каждую ночь, и пыли было мало, особенно по утрам. Я ехал в метро, потом на трамвае, вышел на улицу со странным названием «Матросская тишина», не сразу нашел тюрьму – все спрашивал, смущаясь: «Вы не скажете, где здесь тюрьма? Тюрьма где здесь?» И казалось, что и окрестные улицы, и люди, которые здесь живут, и просто прохожие обязательно носят отпечаток этого мрачного места.
Однако место оказалось совсем обычным на вид – обыкновенная улица. Правда, высокий кирпичный забор. И все же я подумал: вот если бы не знал о тюрьме, то, проходя случайно по этой улице, почувствовал бы?
Приближаясь к проходной – унылое серое здание и окна с решетками, но, вообще-то говоря, ничего особенного, а тем более жуткого… – я встретил женщину с опухшим лицом и красными глазами. От слез? Но когда спросил у нее, сюда ли иду, где проходная тюрьмы, она как-то очень бойко и даже весело ответила, что да, мол, сюда я иду, правильно, а проходная – вон те двери. Она даже развеселилась как будто бы и добавила с сердечностью:
– Вон звоночек, видите? Звонить нужно, часовой и выйдет, – сказала так, как будто бы объясняла, как войти в магазин.
Я позвонил, часовой вышел не сразу, но все же вышел, спросил, что нужно. Я сказал, что к Чирикову, тот обещал выяснить и скрылся. Я остался у дверей снаружи.
Честно говоря, было как-то неловко стоять на улице у проходной тюрьмы – казалось, что прохожие с особенным интересом разглядывают меня и, конечно же, ищут на моем лице печать горя, и, может быть сочувственно думают: «Кто у него? отец? брат?» И потому я как-то невольно старался делать очень бодрый, независимый, свободный вид, словно подчеркивая, что я не на свиданье, нет, я журналист, мне очерк писать… Глупость, конечно, а ничего не поделаешь – тюрьма это тюрьма.
Наконец, часовой распахнул дверь, велел войти, сказал, что позвонит сейчас Чирикову, и я должен буду с ним говорить. Он набрал номер, потом передал трубку мне, я услышал знакомый уже, приветливый голос Чирикова, назвался, он узнал меня и сказал, чтобы я подождал. Он пришлет за мной.
– Паспорт есть у вас? – строго спросил часовой.
Я протянул паспорт с внезапным ужасом от промелькнувшей нелепой мысли: ну как он спросит, где я работаю – ведь я «тунеядец»? Хорошо, что хоть не сам созванивался с Чириковым, хорошо, что хоть Алик знает, вступится, если что…
В тесное помещение проходной вошла женщина в синем халате, очень похожем на халат институтского лаборанта. На ее лице был заметный шрам.
– Вы к Чирикову? – деловито обратилась она ко мне.
– Да.
– Пойдемте.
Мы вышли из проходной и зашагали по длинному коридору. Я оглядывался тайком, искал двери камер, решетки, но коридор был обычный, учрежденческий. Встретилось несколько совершенно обыкновенных людей в штатском. «Напоминает заводоуправление», – подумал я.
Раза два споткнулся, идя вслед за женщиной в синем халате, и даже здесь, в коридоре, по инерции делал свободный, независимый вид: я, мол, не заключенный, а журналист, я по своей воле, мне очерк писать… Но никто из проходящих, кажется, не обращал на меня внимания.
И тут я ощутил слабый, едва уловимый запах дезинфекции. Хлорки, или карболки. Хотя такой запах стоит во многих учрежденческих коридорах, но я счел это первым признаком места, в котором находился впервые в жизни.
Миновали какую-то дверь, пошли по новому коридору. По стенам коридора тоже были все двери, одна из них приоткрыта. На ходу я заглянул в темную щель и вздрогнул, увидев в полутьме экран и стриженые головы. И догадался тотчас: ОНИ смотрят кино.
Наконец, перед нами – большая дверь-решетка из толстых железных прутьев. Провожатая спокойно вытащила из кармана огромный ключ, сунула его в замочную скважину и повернула. Дверь со скрежетом отворилась, мы оба шагнули вперед, женщина обернулась и заперла дверь. Теперь – за нами.
Каменный маленький дворик – как в церквях или в монастырях, – каменные серые стены с маленькими зарешеченными окнами со всех четырех сторон. Наверху – небо, но оно действительно далеко и даже какое-то ненастоящее, а солнечные лучи здесь, кажется, – не солнце, а просто ослепительный белый свет.
Миновали дворик, опять вошли в какую-то дверь, поднялись по лестнице.
Еще одна дверь – и оказались в кабинете подполковника Чирикова.
– Я вызову вас, Ангелина Степановна, – сказал Чириков, и провожатая вышла.
Константин Иванович Чириков был мужчина лет пятидесяти пяти, черноволосый, с легким проблеском седины, с довольно интеллигентным лицом и доброжелательными светлыми глазами. У меня тотчас же возникла мысль: почему, по какой такой особенной причине он выбрал себе эту работу? Как он говорит о ней своим знакомым? Глупо, но я машинально искал на его улыбающемся добром лице следы жестокости, садистические наклонности. Ведь должно же быть что-то! Но не находил. Чириков улыбался на самом деле приветливо, его лицо было совершенно обычным.
И все же, так и не сумев преодолеть растерянности, я задал идиотский стандартный вопрос:
– Константин Иванович, скажите пожалуйста, что вы лично думаете о том, как можно бороться с преступностью несовершеннолетних? Какая работа, собственно, проводится в тюрьме в этом направлении?
Подполковник слегка изменился в лице – видимо не ожидал от журналиста такой глупости.
– Мы стараемся воспитывать уважение к закону, – слегка улыбаясь, заговорил он. – Агитируем, проводим беседы… Кинофильмы показываем. У нас есть мастерские…
Тут я отчасти опомнился, более или менее пришел в себя. Подполковник, слава богу, кажется, понял.
– Ну, а теперь я вызову воспитателя Мерцалова Сергей Сергеича, – с облегчением сказал он. – Мерцалов покажет вам все, что захотите.
– И в камеру тоже можно будет зайти? – спросил я, едва справляясь с волнением.
– Да, разумеется. Куда угодно. Действуйте. Хочу сказать, что вы занялись благородным делом. От души желаю вам успеха. Мы поможем всем, чем сможем. Сколько у вас времени? Весь день? Очень хорошо. Если не успеете сегодня, можно прийти еще. Только лучше после праздников, а то у нас сейчас трудное время… Ну, всего доброго. Желаю успеха.
И он крепко пожал мне руку.
Вошел Мерцалов, старший воспитатель, и мы отправились. Сергей Сергеич привел меня в комнату воспитателей, и тотчас на меня прямо-таки накинулись те, что были в комнате – собрались, видимо, в ожидании…
– Погодите, что вы все на него напали! Не все сразу. Дайте человеку в себя прийти, что надо, он и сам спросит… Вы уж на них не сердитесь, нагорело это все, мы же с этим каждый день сталкиваемся, насмотрелись. Извините нас.
Это говорил Мерцалов.
– Нет, что вы, что вы, наоборот. Я очень рад, что вы так… Я и хотел у вас об этом спросить, что вы сами думаете, что надо делать, чтобы… – В понятной растерянности, но искренне я отвечал.
– Вот! Правильно! Надо писать больше об этом, не скрывать. Первое и главное!
– А потом прежде всего надо спрашивать со взрослых. Слушайте меня. Вы меня послушайте! Мы вот все в газетах кричим, что школа. «Школа виновата, школа!» Да, школа, правильно. Ну, а родители куда смотрели, а? Или вообще взрослые? Даже на улице: парень у него же прикурить просит, а он – ладно, как будто так и положено. «На, прикуривай, малыш!» Водку ребятам продают…
– Отца и мать судить за детей надо!
– Правильно!
– Надо, конечно. А почему? А потому, что мы вот ребят судим, а если разобраться, то отец с матерью часто больше даже виноваты! Сами водку пьют или еще там что, шуры-муры, а за ребятами и не смотрят, что же мы с ребят-то хотим, что же с них требовать-то, если родители сами?
– Судить надо, и все! Раз-другой родителей осудить, как следует, присудить им за ребенка срок, тогда очухаются, поймут! Пойму-ут!
– Вот вы тут все родители! Родители! Да? Что ж, верно, родители. Семья. Правильно. А если мать работает весь день, приходит вечером, а отца, допустим, нет, или он есть, но тоже работает? Как тогда? Ребенок, что же, приходит из школы, дома – никого, он – на улицу. А улица, сами знаете, всякая бывает, и даже если, допустим, дружков никаких таких особенных нет, а все равно заняться чем-то нужно? Ну, хорошо, там, футбол-волейбол, секция, а если, допустим, секций нет и в футбол негде сыграть – есть же такое? Что же остается?
– Ну, послушай! Послушай ты… Причем тут!…
– Нет-нет, погоди, погоди. Дай мне сказать. Я не говорю, что он должен, к примеру, машину угонять или, там, грабить-хулиганить. Но все же, смотри: если тебе делать нечего, на стенку полезешь, так? От скуки-то! А там еще рыцарство разное и другое. В разбойников играют, в индейцев. Он же парень, мальчик еще, верно? Надо же ему…
– Вот и должен комсомол…
– Во! То-то и оно! Тут вот вы, комсомольцы, и должны свое дело делать. Про то и речь!
– А, брось! Они и делают свое: шефство разное… А что с этого шефства, если шеф придет на полчасика и уйдет, а вечером папаша вдрезину домой вломится и мамашу по шее, по шее. А потом сына своего или дочь. Тут и шефство твое не поможет, понял?
– Вы их не слушайте, они вам такого наговорят…
– А что, неправду говорим, что ли?!
– Да нет, правду-то правду…
Голоса звучали для меня, как музыка, я упивался ими и нарочно не перебивал, ни о чем не спрашивал. «Вот же, вот люди! Это – люди!» – в очередной раз думал я. Поразительно что не где-нибудь, а в тюрьме, от тюремных воспитателей я слышу то, что так хотел слышать всегда – тревогу не за себя, а за других, сочувствие другим, понимание, что чужое горе – это горе твое, никуда не денешься от этого, бессмысленно и бесполезно затыкать уши и жмурить глаза! Мы все связаны, колокол чужой беды звонит все равно по тебе, как бы ты ни отворачивался и не защищался – правильно написал Хемингуэй!
Да, в очередной раз я был потрясен. Настолько не было в их сумбурных монологах искусственности, позы, желания как-то себя показать! Наоборот! Забота и скрытая, привычная боль, искренность, поиск выхода! Сочувствие! Да, да, вот уж не ожидал! Я понимал, конечно, что совсем не обязательно они так же добры со своими «воспитанниками», однако сейчас видел перед собой людей, мучимых тем, что они изо дня в день наблюдают. Не было озлобленности, черствости, закоснелости. Наоборот! Неравнодушны они были и искренни, вот в чем дело!
Я вытащил свою тетрадь, пытаясь набросать хоть что-то – и вид тетради и ручки ничуть не смутил их…
– Вон, давай-ка Брыксина ему позовем, покажем… Знаете, парню пятнадцать лет, два года колонии получил и уже второй раз, вторая судимость. И ни мамаша, ни папаша ни черта внимания не обращали, спохватились, когда уже поздно… А парень весь исколот, и такие слова… Умрете! Смех да и только. Я ему говорю: как же ты, Валерка, купаться-то с девушкой будешь? Как же ты в плавках ей покажешься? А ему все нипочем… Приведи Брыксина, Саш!
– Привести? Хотите посмотреть?
– Конечно. Если можно.
– Сейчас приведут. Пятнадцать лет парню, а уже вторая судимость, вот как. Два года колонии. Ничего не понимает, как чокнутый…
Привели Брыксина. Паренек растерянно улыбался.
– Вот он, герой! Давай, давай, иди сюда ближе, Валерка. Покажи-ка свою красоту, вон человек посмотрит, полюбуется. Разденься-ка. Ты же этим сам хвалился. Чего же ты? Не стесняйся, давай-давай. Люди свои… Ну, что видели? Видели! Ха-ха! Ох-хо-хо, видали? Нет, вы прочтите, прочтите!… Да ты и штаны давай скидывай, ногу-то, ногу-то покажи, самое интересное… Давай-давай, не стесняйся, ты же ведь этим гордился, что же ты думал, когда делал-то, а? С девушкой купаться как пойдешь, а?
– А я один схожу, чего мне с девушкой…
– Давай, давай, скидывай, пусть человек полюбуется… О, видали?! Ха-ха-ха! Во, дает! Дурак ты глупый, зачем тебе эта красота-то нужна была, а? Видите, что понаписал! Умрешь со смеху. Додуматься надо! Эх, ты, Валерка, бить тебя некому… Ладно с девушкой, а как ты на уроки физкультуры-то в школе ходил, а? Или не ходил совсем?
– Ногу перевязывал, подумаешь. А здесь – майка с рукавами.
Брыксин по-прежнему улыбался. Он как будто бы понимал, что не со зла они это, не в насмешку. Что от досады они и от горечи. А разрисован он был и вправду смешно…
– О, пострел, видали?! Майка с рукавами! И смеется. Плакать тебе, дураку, надо, а ты смеешься. Ладно, одевайся, парень. За что первый-то раз попал, расскажи вон товарищу.
– По 117-й. Знаете.
– «По 117-й»!… Тебе, дураку, в четыре глаза мало было смотреть теперь, а ты в два не смотрел. Знаешь, ведь, что второй раз условным не отделаешься. Эх ты, Валерка, Валерка, друг ты мой ненормальный… Ну, вы спрашивать у него будете что-нибудь?
– Как у тебя в семье, Валерий? Ты с кем живешь?
– Да все у него есть – и отец, и мать! Не смотрят только ни черта за парнем. Вот вам родители! Их предупреждали, говорили, у сына условное было… А теперь плачут навзрыд, в истерике бьются. У матери инфаркт получился. Что, Валерк, а с матерью-то виделся?
– Виделся.
– И смеется! Во, дурак. Мать едва выжила, а ему все нипочем. Ладно, пойдем, герой…
– Уткина ему приведи, Уткина… Сейчас еще один случай посмотрите. Тоже родители. Этот-то ладно, совсем дурак, пятнадцать лет, что вы хотите, а тот и постарше и парень хороший, сами увидите. По 117-й. И тоже во второй раз.
– Такие маленькие – и 117-я? Странно все же, – искренне недоумевал я.
– Что, маленькие! Уткину в первый раз и вовсе одиннадцать было! Попытка изнасилования. Но там, правда, не всерьез – с большими в компанию затесался, хотел тоже попробовать, как это с девчонкой балуются… Условное. Всего-то как попытка, не успели они, зашухарили их, а то бы… А то все равно бы так не отделался. Правда, самому старшему что-то лет шесть дали. За покушение…
Грустно все это было, грустно. Малые дети фактически. И в тюрьме… А «такие слова» на теле пятнадцатилетнего паренька казались мне тогда даже неким символом. Ну почему же мы без «таких слов» обойтись не можем никак, ко всему прочему, а? Россия – мать, любимая Родина…
31
В нашу «комнату воспитателей» вошел человек в форме.
– Здравствуйте, товарищи!
– Здравствуйте.
– Познакомьтесь, пожалуйста. Старший инструктор-воспитатель…
– Григорьев, Алексей Алексеевич. Подполковник. Очень приятно… Хорошо, хорошо, что вы пришли. Не надо бояться правды! И надо улучшить отношение к работникам тюрем. Нет у нас еще правильного отношения. Вы уже говорили с товарищем?
– Да, говорили.
– А про Марченкову рассказывали? Нет? Напрасно. Поучительно, поучительно… Ну, в мой кабинет, пожалуйста. Прошу. Сергей Сергеич, а вам в восемнадцатую надо зайти, там с Крюкиным что-то.
Мерцалов вышел. За ним и мы с подполковником.
– Вы далеко-то от меня не отходите. А то, знаете… Часовые шутить не любят, – Алексей Алексеевич подмигнул и усмехнулся.



