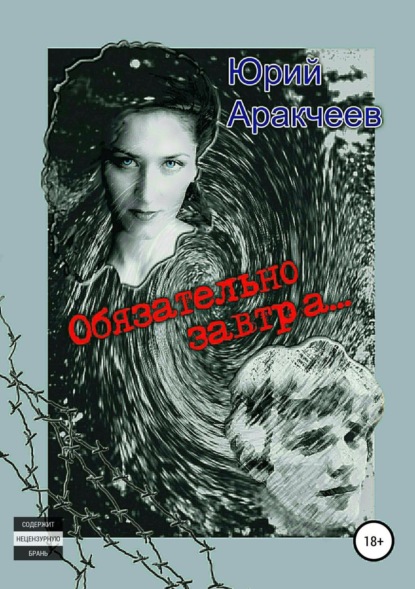 Полная версия
Полная версияОбязательно завтра
Вот так.
Вышел я из райкома в десятом часу вечера. Варфоломеев и Силин еще остались.
27
О, эти сны… Порой они бывали почти наяву. В воображении. Под хорошую музыку, например. Или утром, когда проснешься, но можно не торопиться вставать. Или, наоборот, вечером, когда ляжешь и остаешься наедине… Путешествия «по странам и континентам»… Реки, моря, тропические леса… Полеты на планерах, прыжки с парашютом, плавания на кораблях, на яхтах… Ну, и естественно, девушки…
Несмотря ни на что, во мне всегда жила уверенность, что мечты могут стать реальностью и что нужно обязательно сделать так, чтобы стали. Человеку столько дано! Что же мешает?
Даже полеты во сне просто так, без планеров и парашютов, казались реальными! Я понимал, что сплю, и старался запомнить то усилие, которое необходимо, чтобы взлететь – где-то в спине, между лопатками… Напрягаешься, раскидываешь руки и… В небо, к облакам, над землей! Над убогостью, беспомощностью своей, над страхами и сомнениями летишь – к солнцу! Небольшое усилие всего лишь… Правда, какое-то особенное. Наяву не получалось никак! Хотя, просыпаясь, пробовал не раз. Однако… Едва открываешь глаза, тотчас и понимаешь, что ничего не получится…
А левитация йогов, кстати, – разве не то же самое? Ведь, говорят, она существует… У меня, правда, пока тоже не получалось…
И все же некоторые ощущения снов почти сбывались в действительности. На поляне в лесу у костра, например – такое ощущение счастья возникало порой! Или на солнечном летнем лугу среди трав, цветов, бабочек… На берегу реки летним утром, когда солнце медленно поднимается, в небе тихий великий пожар, прохладно, мерзнет спина и руки, на коже мурашки, а потом теплые лучи, и птицы поют, и летают стрекозы… Или, наоборот, на закате, когда буйный, могучий разлив цвета и тишина, а потом теплый мрак и звезды… Или зимой в морозный солнечный день, особенно если неподалеку изба и печь с сухими березовыми дровами, а ты на лыжах в заснеженном лесу, и вокруг тишина…
А если рядом еще и любимая девушка…
А с Лорой? Ведь то, что произошло во вторую нашу встречу – наяву! – было ничуть не хуже любой мечты! Очень даже БЫЛО. В реальности! А в чем-то, может быть, даже и лучше, чем в мечтах, – о чем я до того момента даже и не подозревал! Роскошь! Огненный вихрь! Правда, тогда занавеска задвинулась вскоре, окончилось все довольно быстро… Но ведь могло быть и еще! И если бы…
«Это даже хорошо, что не до конца, а то сердце могло не выдержать» – сказала она тогда… Но если бы… Если бы смог удерживаться, владеть собой… Чтобы не только взлететь, но и парить с ней вместе, не падать на землю убогую раньше срока… Если бы научился… О, боже, так непросто все…
И все-таки, несмотря ни на что! Такие божественные фантазии порой возникали в моем пылком воображении! И до Лоры, и во время, и после… Вот же она, молодая, красивая, безусловно любящая меня девушка, свободная, радостная, не страдающая от своей несчастной жизни… Разве не может такого быть? Да вот и Жанна, которая с Виталием, хотя бы… На берегу озера, моря или в лесу, в поле, среди трав, цветов, бабочек… Обнаженная… Словно светящаяся… Мы любим друг друга, нам весело, а не грустно, и я фотографирую ее, словно нимфу… Истинный Рай… Разве наяву не может быть такого?! Но что же мешает?
Долго, очень долго не мог я понять, почему люди так легко и быстро смиряются, поддаются, и когда оказываются предоставленными сами себе и вынуждены самостоятельно что-то решать – не хотят почему-то… Тяготятся свободой, ищут кого-нибудь, кто руководил бы, – вместо того, чтобы самим оглядеться, осмыслить, понять, и… Пробовать! Пытаться! Осуществить! Искать пути – ДЕЙСТВОВАТЬ! Увы… Напиваются или оглушают себя чем-нибудь при первом удобном случае, ленятся, ссорятся, издеваются друг над другом, завидуют, обижаются, пытаются обязательно подчинить себе того, кто слабее, или, хотя бы унизить, а перед сильным, наоборот, распластываются и егозят. И… умирают – умирают при жизни! Да, я это видел, видел постоянно! Да ведь и сам отчасти…
«Народ, измученный свободой…» Так мало сил, так мало веры… Готовы отдаться каждому, кто хоть на время заглушит голод, тоску, а главное избавит от необходимости что-то решать… «Хлеба и зрелищ!» В глубине души, конечно, многие понимают, осознают, и… ненавидят сами себя. А заодно и всех других. Но кто же тогда виноват?
«Мы сами строим свои тюрьмы» – да, именно так называлась одна из картин Святослава Рериха, которую увидел однажды на выставке. И не столько поразила сама картина, сколько ее название. Да, МЫ САМИ… Много раз в своей жизни потом вспоминал я эту очевидную истину, и каждый раз неизменно вставал вопрос: ПОЧЕМУ? Да, я старался, старался. С детства возненавидел ложь. Старался не лгать, но ведь все равно приходится иногда. Преодолевал сиротство, материальную бедность, учился… Страх перед девушками – перед таинственным неизвестным… – пытался преодолеть. Чего-то все же достиг, но мало, мало…
И теперь вот проблема. Лора, очерк… И то, и то важно. Но как преодолеть то, что в журналах и, в частности, в молодежном, у Алексеева… Ведь если «не угожу», ничего не получится. А угождать не собираюсь. Ни в коем случае! Как и с Лорой. Разве я виноват перед ней в чем-то?
Да, с детства – с самого раннего детства, пожалуй, – ощущал я жестокую, холодную руку, которая сжимала сердце, мутила разум, сковывала тело. Рука и – серая, липкая паутина… Страх. Глубокий, так трудно преодолимый страх. Почему? Откуда? Как же преодолеть его?
28
…Огромный кабинет, большой стол в углу у окна, прекрасный паркет, кресла, в которых тонешь по горло, несколько новеньких телефонных аппаратов на столе… Центральный Комитет комсомола. Приемная «завсектором по пионерской работе» Шишко.
Шишко – невысокий коренастый, этакий округлый человечек. Тот самый, который выступал на собрании актива 11-го. Он сразу начал со мной на «ты», как-то демонстративно подчеркивая деловую свою грубоватость. Хотя это удивительно контрастировало с роскошной обстановкой огромного кабинета.
Во время разговора он любовно поглаживал телефонные аппараты. Они и действительно были как хорошенькие игрушки – маленькие, оригинальной обтекаемой формы, разноцветные, новенькие. Импортные.
Разговор был довольно коротким. Завсектором ЦК испытующе разглядывал меня несколько секунд, игнорируя легкое мое смущение от непривычности обстановки, а также просьбу, с которой я к нему обратился. Просьба была о документах обследования района, о которых Шишко говорил на Активе. «Не могли бы вы мне их показать?» – так сформулировал я цель своего визита.
Поразглядывав и придя, как видно, к какому-то выводу, Шишко задал свой вопрос:
– Ты говоришь, тебя послал этот самый журнал, так? Ну, а скажи, как ты лично сам к нему относишься, к этому журналу? И к тому, что там печатают?
Я собирался сказать, что нужно печатать больше острых документальных материалов и не бояться ставить проблемы, потому что… Но, не дав мне и рта раскрыть, Шишко продолжал с уверенностью:
– Ведь плохой журнал, правда? Ты читал эту повесть?… – он назвал одну из нашумевших в последнее время повестей, опубликованную в этом журнале. Я повесть не читал, только собирался, но помнил, что ее хвалили уважаемые люди именно за остроту и правдивость. Однако и этого я не успел сказать. Шишко продолжал энергично:
– Скажи, ну разве это главное сейчас, а? То, что они печатают. Грязь, натурализм, чернуха… Не главное это! Главное сейчас – нацелить молодежь на самоотверженный труд, на борьбу с пережитками прошлого, верно? А они – об этих пережитках, наоборот… Грязное белье ворошат! Надо нацелить на борьбу с преступлениями, на положительных примерах учить! Вот в чем веление времени. А они…
Шишко посмотрел на меня очень внушительно. Потом махнул рукой, как-то неожиданно сделал кислое выражение лица и продолжал:
– Ни черта они там не делают в журнале, так мне кажется! Ты согласен? Ну, что они могут сказать молодому поколению, а? Как помочь? Э, ладно, мы с этим еще разберемся. Разберемся! Так. Значит, хочешь очерк писать. – Теперь он посмотрел на меня испытующе. – Ну, а что ты думаешь вообще по этому поводу? А?
Он умолк, и я понял, что теперь пришло время сказать хоть что-то.
– По какому поводу? – спросил я.
– Как по какому поводу?! О чем ты собираешься очерк писать?
– О преступности несовершеннолетних.
– Ну, вот это я и спрашиваю. Что ты думаешь по этому поводу? Меня интересует в основном пионерский возраст. Но и постарше тоже – до 16 лет.
На миг он замолчал, как будто бы ожидая ответа. Но быстро и исчерпывающе ответить на столь риторический вопрос было непросто. Пока я собирался с мыслями, Шишко коротко и как-то разочарованно вздохнул, а потом, не обращая внимания на то, что я все-таки собирался ответить, продолжал:
– Так что тебе нужно было? Результат обследования? Ты это хотел?
– Да, – обрадовался я. – Вы говорили о нем на Активе 11-го, и я хотел бы… Понимаете, мне в Горкоме Амелин…
– Так-так, – опять перебил он. – Ну, а сам-то ты что делал, где побывал?
– Ну, я много где был, – заторопился я на этот раз. – В милициях, в детских комнатах, в Горкоме не один раз, у шефов некоторых комсомольских, в клубе «Романтик». На Активе вот. Завтра в тюрьму иду, потом в колонию поеду…
– Ага, хорошо. Молодец! И давно ты занимаешься этим?
– Да уж месяц.
– Что? Месяц? Всего-то? – Шишко развел руками и разочарованно хмыкнул. – Месяц! Тебе надо как следует вникнуть в это дело, по-серьезному. Раз уж взялся. По-серьезному! А ты – месяц. Мы вон сколько времени этим занимаемся, а все никак не решим проблему. Условия для возникновения преступности у нас ведь давно ликвидированы, так? А преступность есть! И в последнее время выросла даже. Вот ведь какой фокус. А ты – месяц!
Он покачал головой, помолчал несколько секунд и опять хлопнул по столу крепкой ладонью.
– Так! Ну, что ж. – Он сосредоточился на миг и побарабанил пальцами по столу. – Я-то думал, что разговор у нас будет долгим, а он, оказывается, короткий, – подытожил он, наконец, снисходительно, но и ободряюще посмотрел на меня, улыбнулся и решительно остановил свою руку на одном из телефонных аппаратов.
– Так. Надо тебе еще посмотреть, поездить. Я тебя сейчас…
Он подумал, снял руку с красивого аппарата и перевел какой-то рычажок на небольшом изящном щитке, который я только сейчас заметил. Перед ним, оказывается был целый пульт управления. Как в самолете.
– Я сейчас вызову Седых, – энергично сказал Шишко. – Он у нас преступностью занимается. Сведу тебя с ним. Инструктор… Так ты, значит, в журнале не штатный? А работаешь где? Или учишься?
Теперь он говорил дружески, с некоторой теплотой даже.
– Учусь. В Литературном институте, – успел я ответить.
– Имени Горького? – брови Шишко поднялись.
– Да, – кивнул я.
– Прекрасно, – с восхищением сказал завсектором ЦК, и лицо его вдруг просияло. – Так ты, значит, можешь… Слушай, знаешь, что мне надо… – заговорил он совсем по-свойски и впервые заинтересованно. – Вот что мне нужно… Ты там подбери ребят – есть у тебя ребята на примете? Хорошие ребята, надежные? Так вот, ты подбери ребят, мы с вами будем держать связь, понял. Через тебя. Нам тут кое-что понадобится…
Теперь он смотрел совсем по-другому, с заговорщицкой какой-то улыбкой, почти по-детски. И я вдруг увидел в нем обыкновенного человека, понял, кажется, какой он в обычной – неофициальной – жизни, каким парнем был совсем еще недавно. И с удивлением подумал, что бравада его напускная, что он, как и я, как все, испытывает обыкновеннейшее чувство неуверенности в себе, что он в общем-то маленький человек и в глубине души осознает это, но при том изо всех сил пытается сделать то, что должен делать, что от него тоже где-то там требуют, что он хочет и сам – искренне хочет, – но вот на самом деле не знает, как. И, конечно, не верит, что кто-нибудь может знать.
– Знаешь, что нам нужно, – продолжал он тем временем доверительно, с интимной, дружеской интонацией. – Ну, вот о фильмах, хотя бы. Тут недавно вышел этот, как его… «Великолепная семерка». Смотрел?
С обезоруживающей ясной улыбкой он вгляделся в мои глаза.
– Смотрел, – только и успел я вставить.
– Так вот о нем написать надо как следует! – обрадовался Шишко. – Раздолбать во все корки, понял! Ишь, ковбои! После таких фильмов, знаешь, как у нас работы прибавилось! – Теперь он смотрел с детским недоумением. – Или еще такой вот, как его… – продолжал он и запнулся на секунду. – «Рокко и его братья»! Итальянский. После него ведь тоже… Там ведь изнасилование показывают во весь экран! Мерзость, грязь… А зачем, спрашивается? Чтобы подражали? Куда кинопрокат смотрит? У нас такие фильмы вот где сидят! – он похлопал себя по макушке.
В дверь тихо постучали, и в кабинет вошел высокий, сутулый, какой-то очень болезненный, с мешками под глазами, хотя, видимо, нестарый человек.
– Вызывали? – уныло спросил он, и в голосе его была тоска, а в глазах упрек.
– Да! – бодро сказал Шишко. – Вот, из Литературного института товарищ. – Он опять приветливо и ободряюще посмотрел на меня. – Занимается преступностью. Я ему сказал, чтобы он подобрал ребят. Насчет фильмов. Поговори с ним, введи в курс. А ты – обратился он ко мне, – держи со мной связь, звони, если что. Как ребят подберешь, звони. Договорились? Ну, хорошо. Желаю успеха.
Он привстал и, перегнувшись через стол, энергично потряс мою руку. А меня не покидало чувство, что я опять на каком-то странном спектакле.
Мы с Седых вышли из кабинета и направились в дальний конец коридора. Даже в полумраке коридора, даже со спины Седых производил удручающее впечатление. Казалось, его, тяжелобольного, подняли с постели, заставили ходить, что-то делать, и все это может печально закончиться. Особенно разителен был контраст с боевым, полным жизненных сил Шишко.
Кабинет Седых оказался неожиданно маленьким, с каким-то странным узким окном, мне почему-то пришла на ум тюремная камера. Одиночка, потому что здесь едва уместился стол. И два стула.
Мы оба сели, и Седых долго молчал – то ли собирался с мыслями, то ли приходил в себя после утомительного перехода. Надо было, однако же, что-то решать, и он, наконец, поднял на меня свои больные глаза.
– Да, ты еще мало знаешь… – сказал он скорбным голосом и замолк.
Потом собрался с силами и продолжал:
– У нас по Союзу… Это мы говорим, что у нас все в порядке, а на самом-то деле… Не тишь да гладь.
Он опять умолк, тяжело вздохнул, и я не смел нарушить тягостного молчания. Прошло минуты две. Я не знал, что делать, и чувствовал себя неуютно.
– Да, так вот. Знаешь, что надо? – Седых опять тяжело вздохнул, потом достал из стола сигареты и закурил. – Надо бы нам статью, – сказал он, мечтательно глядя в окно и жадно затягиваясь. – Статью нам надо. Или очерк. О фильмах. Вот, например, этот фильм…
– «Великолепная семерка»? – угадал я.
– Точно. О ковбоях который.
Седых кивнул, продолжая смотреть в окно и втягивая в себя дым даже с каким-то свистом.
– И другие, – продолжил он, собравшись с силами. – Другие тоже. Итальянские, например. Этот, как его…
– «Рокко и его братья»? – опять подсказал я.
– Точно. Да и другие в сущности тоже.
Так он курил с минуту, задумчиво глядя в окно. Что он видел там? – стал думать я почему-то. Может быть, перед ним проносились кадры из итальянских фильмов? Или подвиги американских ковбоев все же?
Наконец, Седых положил сигарету на край пепельницы и обратил на меня свой тихий печальный взор. В светлых глазах его было само страдание.
– Понимаешь, это же вредные фильмы. Очень вредные фильмы…
Он тяжело вздохнул, покачал головой и опять задумался. Мне стало передаваться его настроение, я почувствовал, что тоже впадаю в тягостное оцепенение, в этакий транс. Так мы сидели минуты три. Ни один звук не доносился до нас. В огромном здании была полнейшая тишина.
– Напишешь? – спросил вдруг Седых, опять собравшись с силами, а я от неожиданности на этот раз вздрогнул. – Напишешь, а? – страдая, он смотрел мне в глаза. – После «Великолепной семерки» у нас… Преступность выросла, – продолжал он скорбно. – Ты еще не знаешь… Ты еще не знаешь…
И его взор опять погрузился в окно.
Я просто не знал, что делать. Ведь это могло длиться до бесконечности. Я кашлянул и, поерзав, скрипнул стулом. Этот звук вывел инструктора из задумчивости. Седых посмотрел на меня:
– Ну, что?
По глазам его было видно, что он не верит в то, что я соглашусь. Похоже было, что он вообще ни во что не верит, да и мысли его были сейчас неизвестно где.
– Нет, вы знаете, я боюсь, что… – сказал я как-то машинально, совершенно забыв в этот момент, о чем, собственно речь.
Но в глазах, которые смотрели на меня, появилось тотчас же столько отчаяния, столько безнадежной тоски, что в желании хоть чем-то утешить этого человека я добавил:
– Но я поговорю с ребятами в институте. Может быть, кто-нибудь согласится… Обязательно поговорю! Конечно.
– Да? – Седых долго задумчиво смотрел на меня. – Ну, что ж, давай. Ладно. Большое дело сделаешь… Надо работать, надо работать.
Невыразимая грусть звучала в его словах. Стало так жаль его, что я едва удержался, чтобы не потрепать его по плечу и не сказать что-нибудь вроде: «Ничего-ничего, все будет хорошо, старик!» Но на это я, конечно же, не решился и только кивнул машинально и сказал:
– Да-да, обязательно. Постараюсь.
И неожиданно для самого себя повторил за ним автоматически:
– Надо, надо работать…
– Ну, так ты мой телефон запиши, – сказал Седых и посмотрел на меня явно в полной уверенности, что даже если я и запишу его телефон, то все равно не позвоню никогда.
– Вот… – Он взял чистый листок, черкнул на нем что-то и протянул мне. – Звони, если что. Заходи…
Затем он поднялся и протянул на прощанье руку. Она была сухая, холодная. Мельком глянул я на листок, который он дал, и обомлел: цифры невозможно было разобрать…
С тяжелым сердцем вышел я на шумную улицу. Ярко светило солнце, весело проносились автомобили, люди спешили по своим делам. Мимо прошла стайка девушек, они оживленно о чем-то спорили.
Кончался вторник, и я вспомнил, что это был день творческого семинара в институте. Я опять пропустил его – теперь из-за Шишко и Седых. Чье-то чтение назначили в прошлый раз… Но это казалось теперь и вовсе мелким… Правда, на следующий вторник как будто бы назначали чтение мое.
29
На другой день, в десять, как и договорились, я был у Раисы Вениаминовны.
Дедушка Корабельников – у него было редкое имя, Иона Ионович, – оказался высоким лысым стариком с бородкой клинышком и усами – очень похожий на поэта Некрасова. Он сидел на стуле напротив Раисы Вениаминовны – на том самом стуле, на котором вчера сидел я, – и плакал. Как-то странно было смотреть на сильного крупного старика, по щекам, по усам и бороде которого текли обильные слезы. Он всхлипывал, как ребенок.
– Я никогда в жизни так не плакал, ей-богу, – говорил он, оправдываясь, и слезы текли по его лицу. – Войну всю прошел, а не плакал ни разу. Я его любил больше всех на свете, у меня же нет никого больше, кроме него, я один, совсем один, как перст одинокий, – всхлипывал Иона Ионович. – Если бы вы знали, как он рисует, какие у него восхитительные рисунки, я вам могу показать, он же художник, он же моя единственная любовь, гражданин следователь, пожалейте его, ведь у него нет никого, кроме меня, его отец не любит, а Вася отца ненавидит, только я один у него и есть, а он у меня…
Раиса Вениаминовна сидела молча и время от времени поднимала на меня печальные глаза. Наконец, когда дед немного успокоился, она начала задавать вопросы.
– Ну, хорошо, Иона Ионович, а вот ведь у вас в доме появлялись магнитофоны… Ведь появлялись?
– Какие магнитофоны? – старик немедленно выпрямился и переменился в лице. – Какие магнитофоны?
– Ну, хорошо, пожалуйста, вот ведь сам же Вася ваш говорил, что два раза оставлял у вас магнитофоны – в феврале и в марте. Как же вы не обратили на это внимания? Вы ведь, наверное, даже и не спросили, откуда магнитофоны у вашего внука, у вас даже никаких мыслей на этот счет не было, так?
– Спрашивал! Как же, спрашивал! Я его спрашивал. Он мне сказал, что у товарища взял поиграть, а потом вернул, будто.
Старик недоумевающе выпрямился и вытер рукавом слезы.
– Ну, хорошо, – терпеливо продолжала Раиса Вениаминовна. – Первый он вернул. А второй? Второй ведь у вас до последнего дня стоял, до самого Васиного ареста. Почему же вы не расспросили его как следует? Ведь можно было бы раньше все прекратить, и тогда участь вашего Васи была бы легче, и младший бы в эту компанию не попал. Ведь вы же знали, что Вася побывал раз в колонии, ведь вы же мне обещали присматривать за ним – помните наш разговор? Я вам поверила…
Иона Ионович смотрел с непонимающим видом. Он изо всех сил пытался взять в толк, куда это следователь клонит.
– Или вот в ту ночь, 15-го, ваш внук не ночевал дома, – спокойно и мягко продолжала Раиса Вениаминовна. – Вы мне даже сказали, что он всю неделю подряд у вас не ночевал, верно?
– Да, верно. – От мучительного напряжения дед застыл, на лбу его собрались многочисленные складки, рот приоткрылся.
– Ну, вот, про то я и говорю, – тихо продолжала Раиса Вениаминовна. – Всю неделю ваш внук не ночует дома, а у вас даже беспокойства нет…
– Гражданин следователь, но я ведь думал, что он у отца ночует, он ведь и раньше, бывало, у отца ночевал. Я и думал… – Заговорил старик в полном недоумении.
– Ну, хорошо, вы так думали. Но вы бы хоть побеспокоились, позвонили бы вашему сыну, узнали бы, у него Вася или нет. Как же так можно?
При словах «вашему сыну» дедушку передернуло.
– Я его, подлеца, и знать не хочу! – с неожиданной твердостью совсем уже выпрямившись, сказал он. – Это он во всем виноват, и в том, что в первый раз несчастье случилось, это все его вина, он мне не сын, он и меня не уважает, отца родного. Не сын он мне! Это он Васю загубил, подлец. Подлец, негодяй, я его знать не хочу!
Устало вздохнув, Раиса Вениаминовна взглянула на меня. Потом продолжала.
– Ну, хорошо, Иона Ионович, сына своего вы знать не хотите, но о внуке-то своем вы должны были позаботиться, ведь так?
– Должен, – все так же недоумевая, произнес дедушка. И тут же вдруг опять надломился. – Так я… Так я, господи… – Лицо его опять сморщилось, и слезы обильно потекли по щекам. – Господи, какое несчастье, – запричитал он, – не верится, прямо не верится, гражданин следователь, вы простите меня, старого, что я вот тут, ведь я так его любил, так любил, господи, за что же мне наказание такое великое, господи, боже мой… Гражданин следователь, ну передачку-то, передачку-то я хоть смогу ему передать, хоть передачку-то, а? Я вот тут купил ему, может быть, вы передадите, а?
Светлые молящие глаза уставились на следователя, потом на меня, и, видимо, потому, что Раиса Вениаминовна не смотрела на него, писала протокол, а в моих глазах он все-таки прочитал сочувствие, дедушка умоляюще протянул сумку мне, и я просто не мог не взять ее – взял и, не зная, что с ней делать, положил на стол.
– Раиса Вениаминовна, как с этим? – в полной растерянности спросил я.
– Да-да, передадим, передадим, оставьте, – сказала она.
– Молодой человек, сынок! Спасибо! – вскинулся дед и схватил меня за рукав. – Спасибо, ради Христа! Спасибо, гражданин следователь! Хоть передачку-то, сахарку, маслица, господи, несчастье-то какое, какое несчастье, не верится, ну прямо не верится, господи…
– Вот, – сказала Раиса Вениаминовна, когда дедушка Корабельников вышел. – Вася второй раз уже. А дед за ним даже присмотреть не смог. Теперь плачет. А ведь как я его предупреждала, объясняла, как дважды два. Нет! И ведь на пенсии старик, чем он таким особенным занят, скажите? Футбол-хоккей смотреть по телевизору? Жалко, конечно, жалко… Думаете, нам интересно в колонию их запихивать? А ведь подумаешь – сами во всем виноваты. Вы обратили внимание, как он о своем сыне говорил, о Васином отце? Сразу горе побоку! Ненависть взыграла. Не знаю, что у них там с сыном произошло, Васиным отцом, но он просто ненормальный становится, как о нем заговоришь. Как можно с такой ненавистью в сердце жить? Да еще к сыну родному. Не понимаю… Ну, да ладно. А теперь еще на героев посмотрите. Братья-разбойники. Гонора невпроворот! Сейчас главаря вызову, Гаврилова. Фрукт. Такой герой, спасу нет. Дела он себе, видите ли, интересного не нашел, решил шайку сколотить. По музыке, бедный, исстрадался.
Вошел Гаврилов.
На вид ему можно было дать лет девятнадцать-двадцать, хотя на самом деле, как я знал, не было и семнадцати. Высокий – на полголовы выше меня наверняка. Слегка кивнув, он небрежно уселся на стул, развалился, как в кресле, и, положив руку на стол, побарабанил пальцами.



