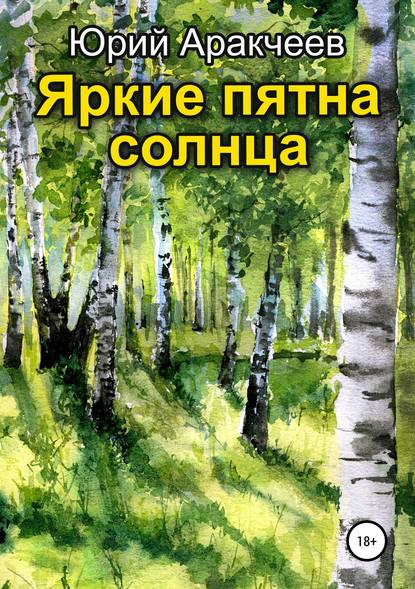 Полная версия
Полная версияЯркие пятна солнца
Ошеломленный, очарованный, размягченный, я сел за стол и, хотя с аппетитом уплетал свой ужин, все же лихорадочно соображал, что нужно мне теперь немедленно сказать и сделать. Пригласить купаться?… Да, именно! Работа у нее ведь закончилась, день жаркий, река совсем рядом… Стоило только подумать так – и вот мы уже с ней на берегу Оки, любимой моей реки, вот мы весело приближаемся к воде – никого нет поблизости, пляж пустынен в это позднее время, хотя солнце еще не село, его желтые блики сверкают на быстрой воде, золотят нашу загорелую кожу. Да-да, летят во все стороны брызги, звенят наши молодые голоса, мы плаваем, борясь с течением, наконец, искупавшись, выходим – легкость, прохлада, чувство свежести, капли на нашей коже… А потом мы уже в лодке, плывем по Оке, солнце садится, тихо и спокойно кругом…
Когда я наконец отвлекся от своих пылких фантазий и посмотрел в ту сторону, где только что была девушка, ее там не оказалось. Выставив все, что мне полагалось по чекам, милое создание упорхнуло и не появлялось больше – потому конечно же, что я ведь и был тем последним посетителем, после которого можно идти домой. Увы, увы…
Вместо девушки в зале появилась женщина с тряпкой и принялась вытирать столы, потом старушка уборщица вышла с ведром и начала мыть пол. А я посидел с минуту, грустно посмеиваясь над собой, вздохнул печально, но затем бодро встал, узнал у старушки, в котором часу открывается столовая завтра, с оптимизмом проследовал через зал к выходу, спустился по темной деревянной лестнице, распахнул дверь на улицу и – зажмурился.
Меня ждала освещенная ярким заходящим солнцем Таруса.
Намечая маршрут, я нарочно, выбрал путь через Тарусу, потому что много слышал о ней. Я понимал, что такой человек, как Паустовский, не стал бы так восхищаться этим маленьким городком, если бы он был того не достоин. И все же я немного боялся разочарования, которое так часто бывает, когда мы многого ждем. Но тут о разочаровании не могло быть и речи…
Сначала была площадь, маленькая площадь с заколоченным почему-то Домом культуры, много приветливых, оживленных людей. «Где здесь купаются, не скажете ли? Как пройти к Оке?» – мои вопросы. Наконец дорога под уклон, старые иссохшие лодки вверх днищами на обочинах. Внизу – Ока… Игрушечная отсюда пристань, неподвижные лодочки с рыбаками, пологий противоположный берег, лес.
– Скажите, где же здесь все-таки купаются?
– Вон на той стороне, городской пляж. Там лучше всего, песок.
– Ну, а как туда перебраться?
– На лодке. Вон, у пристани лодочник.
Когда я, торопясь, обратился к лодочнику, здоровенному парню в тренировочном костюме, он критически осмотрел меня и спросил:
– Сам-то грести можешь?
– Конечно, могу.
– Ну и бери лодку, вон она. Отвяжи и бери, потом на место поставишь.
Уже выплыв на середину, дрожа от сдерживаемой радости – вот ведь везение! – я все еще посматривал на лодочника, все боялся, что он передумает, крикнет, что я, мол, не так гребу или что лодка ему спешно понадобилась, но он и не глядел в мою сторону. Ни документов не взял, ни денег…
Как в светлом детском сне, плавал я на лодке вдоль противоположного берега, купался в теплой вечерней воде, перевез какого-то парня через Оку, потом двух отдыхающих из тарусского дома отдыха. Это были, видимо, муж и жена, пожилые, и муж спросил у меня, как там в Москве, давно ли оттуда. Я сказал, что был в Москве только сегодня, и сам поразился этому простому факту, – казалось, уже так много времени прошло с тех пор. С кем-то еще разговаривал, перевозил кого-то… Потом привязал лодку на место, темнело, лодочника не было поблизости.
В поздних сумерках я поднимался по крутой, мощенной булыжником улице в центре Тарусы. Булыжник был белый, и дорога светлела впереди, поднимаясь в гору. Проходили мимо люди, две девчонки встретились лет по шестнадцати, хорошенькие, внимательно посмотрели на меня, осторожно съехал на малых оборотах навстречу мотоцикл. Наверху был перекресток, и словно какая-то сила влекла наверх, к перекрестку, в ногах не было и намека на усталость. У перекрестка, не раздумывая, я свернул направо и тут же, пройдя лишь несколько шагов, увидел их. Деревья, о которых мечтал в детстве, деревья моего детства. Я не знал толком, как они называются – то ли ивы, то ли осокори, – да это и хорошо. Деревья Моего Детства. Их было четыре или пять, а может быть, восемь, они стояли кряжистые, неохватные, кажущиеся в сумерках просто огромными. Корявая бугристая кора, толстенные ветви, горизонтально протянувшиеся над дорогой. Несмотря на возраст, они были полны жизни, сила так и выпирала из них, казалось, именно от избытка жизненных соков они так толсты, так мощны их стволы и ветви, так густа их зеленая, нигде не тронутая желтизной листва. Ни одного сухого сучка… По любой из нижних ветвей можно было бы ходить, как по буму, каждая из них была в один-полтора обхвата и, если посмотреть вдоль от начала ствола, терялась в дремучей путанице листьев. Какое раздолье для птиц: каждое дерево – целый город, да что там город – государство, зеленая живая страна, куда можно залезть и заблудиться среди ветвей.
Ветвь, на которую я прилег, казалась теплой. Сквозь неподвижный ажур справа и слева отцветало небо. Ни один зубчатый листик не шевелился. Я смотрел вверх, я опять был маленьким мальчиком и странствовал по зеленому лабиринту, открывая потаенные уголки, вспугивал птиц, и тело мое было в пятнах солнца…
Проходили мимо в полутьме люди, едва не задевая и не замечая меня, прошагали девушки, оживленно обсуждая что-то, стукнула где-то калитка. Долго лежал я на ветви дерева, изредка меняя позу, когда извилина коры слишком сильно впивалась в тело, смотрел вверх. Уже совсем смерклось, было все так же тихо, тепло.
В темноте летней ночи сошел я с ветви на землю, отправился дальше по улице волшебной Тарусы, непрестанно оглядываясь, запоминая силуэты великанов, – удивительно стройными были они при всем своем величии, – добрел до колодца, выпил холодной воды. Усталости не было, спать не хотелось совсем.
Горел на перекрестке большой фонарь, светились окна домов по обеим сторонам улицы, мощенной белым булыжником, слышались голоса. Двигались людские тени. Улица быстро кончилась, на площади внизу я свернул направо, в первую попавшуюся, с молоденькими деревцами по сторонам, тоже булыжную, узкую, и замер, услышав песню. Песня доносилась из окна второго этажа двухэтажного дома – по улице часто горели фонари, и весь дом был разрисован темными кружевами теней деревьев, – одно окно было открыто настежь, и из черного его проема, из глубины, доносилась негромкая песня. Пела девушка, пела с чувством, удивительно пела. Безо всякого усилия, без напряжения лился молодой голос, и казалось понятным, почему огромные черные деревья стоят, не шелохнувшись, почему в полном молчании застыли дома. Я огляделся и увидел, что невдалеке в тени дерева неподвижно стоит человек, а чуть дальше, под другим деревом – еще. Одинокий девичий голос тосковал, и печалился, и звал кого-то, и сокрушался, но необычайная звенящая радость была в нем в то же самое время, и восторг, и полнота любви, и надежда. Я боялся шелохнуться, громко вздохнуть – чтобы не потерять ни звука песни, ни ноты мелодии, которая никогда ведь не повторится, как не повторится такая именно тарусская ночь, как не повторится все-таки ни одна минута нашей быстротекущей, нашей единственной, нашей таинственной и прекрасной жизни.
На улице, идущей под уклон, не было ни одного фонаря. Впереди и внизу – огромный и полный мрак. Наконец, когда весь свет остался позади и привыкли глаза, стали видны скромные огоньки бакенов, пристань, очертания спящей реки. Остановившись, я присел на одну из перевернутых лодок, погладил ладонями сухое шершавое днище.
Впереди, за рекой, за лесами, за неясной линией горизонта, спал сейчас, отдыхая, непостижимый, бесконечно разнообразный мир с реками, равнинами, городами, деревнями и людьми…
Вывело меня из этого состояния вполне реальное ощущение капель, падающих на голову, за шиворот, на лицо, – теплых и приятных капель, но все учащающихся, грозящих перейти в ливень. Я поднял глаза к небу и не увидел звезд. Предостерегающе заурчало вдали.
Не спеша поднялся я с лодки, бросил последний, прощальный взгляд на спящую реку, на темную даль, зашагал к гостинице. А теплый редкий дождь, как будто нарочно, как будто дожидаясь, пока я дойду до укромных стен, не усиливался, небо терпело, урча от сдержанной мощи. Дойдя до гостиницы, я не стал заходить сразу, остановился, вдыхая свежесть, – но тут уж терпение всевышнего лопнуло, и хлынул мощный, прямой, полноводный ливень, окончательно нарушивший состояние очарованности и тишины.
Со спокойной совестью, убедившись, что песня допета, дослушана до конца, вошел я в гостиницу, поднялся на второй этаж, развернул свежие крахмальные простыни на постели и, ощутив мгновенно одуряющую усталость, лег и уснул сразу, как провалился, с одной лишь счастливой мыслью: мое путешествие только еще началось.
Я понял: Ока, ее теплая вода, песчаные отмели, на которых хрустят ракушки, крутые и пологие берега, прибрежные камни, ивы – все это как раз для меня. И что бы я потом ни увидел, на каких бы реках, в каких местах бы ни побывал, лучше все равно не найду. Очень хорошие, даже прекрасные реки и места могут быть. Но лучше – нет. Тут – моя Родина.
Сосед
Перед самым отъездом из Москвы произошла у меня неприятность, которую я долго не мог вспоминать без пылкой досады.
Узнав о моей идее, родственники и знакомые реагировали каждый по-своему – в основном все же доброжелательно, – но вот один сосед по коммунальной квартире, врач, Иосиф Хайкин, был первым да, в сущности, и единственным, кто категорически и бесповоротно возражал против моей поездки.
Вообще он так близко к сердцу принял мое решение, так остро реагировал на него, что я долго не мог понять, в чем же все-таки дело.
Началось с того, что я обратился к нему по поводу расширения вен на левой ноге. Дело в том, что приблизительно год назад мы с приятелями как-то соревновались: кто сделает больше «пистолетиков», то есть приседаний на одной ноге. По-глупости делали мы это без необходимой разминки. Я победил – присел на левой, толчковой, ноге больше всех – аж 45 раз! – но был наказан за свое чрезмерное рвение – стали вылезать вены чуть ниже колена… И вот я обратился к врачу за советом.
Спокойно он ощупывал мою ногу, но когда я сказал, что вот, мол, еду на велосипеде, один, хочу добраться до Одессы из Москвы, он взглянул на меня как-то странно, и пальцы, ощупывавшие ногу, напряглись.
– Один? На велосипеде? До Одессы? Это еще зачем?
Мы с ним и раньше частенько расходились во мнениях, но такой резкой реакции на мои слова я не ожидал.
– Ну, как же, – сказал я. – Природа, люди… Настоящая жизнь. Интересно же!
– Ну и что ты там будешь делать один? – с каким-то странным раздражением перебил он меня. – Я понимаю, поехать на машине, компанией. Коньяк, шашлык, девушки. А так… Мне это совершенно непонятно.
Я вдруг почувствовал, что не смогу ему объяснить.
– Смотреть буду. Ночевать у местных жителей. Купаться… –сказал я, все-таки.
– Ночевать у местных жителей? – повторил он с недоверием. – Это еще зачем? Смотреть? Что смотреть-то?
Он опять с каким-то раздражительным недоумением смотрел на меня. И наконец вынес свое окончательное резюме:
– Какая чепуха! Ничего не понимаю. Чего ты там увидишь, на дороге? И педали крутить без конца…
Он явно не понимал меня. А я его. Ну какое ему дело, казалось бы? Я, что, уговаривал и его, что ли? Но он в явном раздражении прошелся по комнате и сказал:
– Знаешь, я теперь буду воспринимать тебя как человека в высшей степени странного. А с твоей ногой дело дрянь. Нужна операция. Ехать я тебе ни в каком случае не советую. Вообще рекомендую продать велосипед и готовиться к инвалидности. Да ты ведь и не мальчик уже. Удалить вены, конечно, можно. Но велосипед и все такое придется оставить.
Растерянно я поблагодарил его и пошел в свою комнату. Почему-то я был уверен, что ничего страшного с моей ногой нет. Ездил ведь по городу столько, гимнастикой занимался, бегал – и ничего. Но меня удивила его реакция.
Все же я показал ногу еще двум врачам – физкультурному и хирургу, – и оба сказали, что ехать без всякого сомнения можно, нужно только бинтовать эластичным бинтом. Даже полезно ехать, потому что умеренный спорт повредить никогда не может. Об инвалидности и прочем смешно, конечно, и думать.
Сосед же, встретив меня в очередной раз в коридоре, опять странно посмотрел и спросил:
– Все-таки едешь?
– Еду, – ответил я.
– Безумству храбрых не поем мы песню! – продекламировал он, и опять неприязнь так прямо и излучалась от него.
«В чем дело? – думал я, недоумевая. – Почему мое решение так его раздражает?» Лишь много позже я понял, что некоторые люди терпеть не могут, если кто-то поступает не так, как они, живет по-другому и не подчиняется их советам.
Теперь же, в пути, я не раз говорил встречным, что еду, мол, в Одессу, еду один, из Москвы. И каждый раз видел – ровно наоборот! – доброжелательные, по-хорошему сочувствующие глаза…
– Если вам непонятно, это не значит плохо, – сказал я тогда в коридоре соседу, но он не опустился до диспута со мной.
Естественно.
Первое утро
Когда я проснулся, на простынях и подушке лежали яркие пятна солнца.
Это было настоящее утро путешествия – в номере маленькой гостиницы в ста с лишним километрах от Москвы, кругом незнакомые люди и городок незнакомый, на первом этаже в укромном месте под лестницей стоит и ждет меня мой нагруженный велосипед.
В номере было пять кроватей, на одной из них еще кто-то спал, около другой стоял высокий мужчина с зеркальцем в руках и брился. На столике посреди номера лежали грибы.
Первое, что я почувствовал, когда поднялся с кровати, было ощущение новизны, свежести и какая-то тихая, спокойная уверенность в непременном везении. После вчерашнего откоса мышцы слегка болели, но эта спортивная полузабытая боль была приятной. И радостно было думать, что сегодня опять предстоит дорога.
Выезжал я из Тарусы по той самой крутой улице с белым булыжником, по которой ходил вчера вечером, но сегодня, при свете дня, она уже не казалась такой волшебной, а дойдя до перекрестка – улица была слишком крута, и велосипед пришлось вести рядом, – я даже не свернул направо, чтобы посмотреть на деревья. За этим, первым подъемом последовал еще подъем, снова пришлось идти шагом, а в одном месте слева открылась опять широкая, голубоватая от утреннего тумана, панорама Оки.
Проехал мимо какой-то церкви, началось поле с поваленной изгородью («По этой дороге на Паршино ехать?» – спрашивал несколько раз. «По этой, по этой, так прямо и едьте», – отвечали мне), лесок, а потом дорога вдруг неудержимо пошла вниз, я едва успевал тормозить, сильно опасаясь за втулку, – звук тормозов был сухой, в Москве я по незнанию забыл залить втулку автолом, – страшно было также за багажник и за рюкзак, очень уж сильно трясло. Пронеслись мимо несколько развесистых берез, высокие сосны. Поворот – и впереди, внизу, влево и вправо распахнулся большой широкий овраг, дорога стремительно неслась к мостику на дне оврага, а за ним прямо и круто взбиралась на ту сторону вверх. В тряске я едва успевал глянуть по сторонам и все-таки почувствовал, что овраг этот необыкновенный.
Я резко затормозил.
Звякнул звонок на руле, скрипнул багажник. Стало тихо, солнечно. В яркой листве берез самозабвенно распевали птицы. И такое спокойствие, такая завершенность были вокруг.
Потихоньку спустился пешком до мостика, придерживая упорно катящуюся вперед и вниз машину, перешел мостик, поднялся немного вверх и опять остановился, завороженный.
Чистая, светлая роща прямых пестроствольных берез, редкие стволы – колонны. Листья наверху – капители, сливающиеся в изумрудный, ажурный потолок, сквозь который свободно проникают солнечные лучи. Внизу не растет кустарник, только низкая редкая трава, и так сухо, что хочется полежать на теплой земле. Светлый сказочный мир…
Так что выехал я из Тарусы благополучно, – правда, довольно долго после мостика пришлось идти в гору пешком, да и на нужную дорогу попал не сразу, заехал сначала совсем не туда, потом опять овраг, а за оврагом наконец первая деревня – Паршино… Но потом начались блуждания, странствия, и стал этот день, 13 августа, одним из самых длинных – и интересных! – дней путешествия.
Было у меня пять маленьких карт, причем две первые, наиболее подробные, трехкилометровые, как раз и включали весь маршрут от Серпухова до Алексина. Но если от Серпухова до Тарусы немудрено было по прямому шоссе доехать, то от Тарусы до Алексина не только шоссе, но и проселочной дороги прямой, оказывается, не было. Намечая маршрут в Москве, я все же нарочно включил стоящий в стороне городок Алексин, к которому и дорог-то толковых нет, да и вообще стоит он на Оке, а я раньше о нем и не слыхивал, разве что встречал упоминание где-то, но и то не уверен.
У кого как, а у меня 13-е число частенько бывает необычным. А 13-е августа почему-то особенно. 13-го августа я убил своего первого тетерева…
А 13-го августа другого года я спас человека, тонувшего в Москве-реке.
Старинный городок Алексин теперь тоже связан в моей памяти с этим числом.
Но прежде чем доехать до Алексина (от Тарусы по прямой совсем недалеко, километров тридцать), я познал прелесть затерянности и неопределенности, когда словно бы нет прошлого, не хочется думать о будущем, но зато есть яркое, солнечное настоящее, ты сам, твои выносливые крепкие ноги (пусть даже одна из них – с эластичным бинтом), послушная тебе машина и – бесконечное переплетение богом забытых дорог, поля, леса, деревни, полевые цветы, колосящаяся пшеница и рожь, струистое море запахов: сенных, хвойных, навозных, цветочных, неожиданные повороты дороги; овраги, пригорки, ручьи и речушки, сонное, сумеречное молчание старого леса, полевое раздолье с чириканьем птиц, зачарованная, монотонная песня лесного ручья, колодцы, крутые подъемы и спуски, жара, солнце, пот – мучительная, отупляющая и невыразимо прекрасная полнота жизни. От Паршина нужно было держать на Шишкино и дальше на Яблоново, как мне сказали в гостинице, но почему-то втемяшились в голову Ладыжино и Алекино́, они были левее, ближе к Оке, а река эта по-прежнему притягивала, гипнотизировала меня. Перед самым Паршиным, после оврага, я свернул влево по асфальтированной дороге, решив, что раз уж тут есть асфальт, то есть и все основания ехать по нему, держась ближе к Оке. Правда, дорога эта была какая-то странная, слишком прямая, и, когда впереди показался «Запорожец», едущий навстречу, я остановился, дождался его и прокричал в окно кабины: «Куда эта дорога, не скажете?» Кургузый автомобильчик остановился, из окна высунулся интеллигентный мужчина и сказал, что дорога эта идет в пионерский лагерь, а там заканчивается тупиком. За «Запорожцем» появился «Москвич», он тоже притормозил, пассажиры его высунулись, начались расспросы, я сказал, что в Одессу, и опять увидел удивленные, доброжелательные глаза. Мне теперь нравилось говорить, куда еду…
Милитриса Кирбитьевна
Женщина, встретившаяся на окраине деревни Паршино, сказала, что нужно держаться правее, «вон по тому большаку», – Ладыжино останется слева, а Шишкино справа, ни туда, ни туда не надо сворачивать, а все прямо и прямо по «большаку», а я, еще когда слушал ее, тоскливо глядел на «большак», ничем не отличающийся от обыкновенного проселка, и знал уже, что обязательно сверну куда-нибудь «не туда».
Разумеется, так оно и случилось, но когда случилось, мне было почти все равно – я уже расстался с мыслью сегодня проехать Алексин и добраться по «улучшенной грунтовой дороге», как сообщала карта, до большого поселка Ферзиково на полпути от Алексина до Калуги. Потому что от Паршина и начались предалексинские долгие странствия, таинственным образом связавшиеся для меня с числом 13.
Первое, что вспоминается, – коварные, непонятные разветвления дорог, похожих друг на друга и в то же время разных – сухих, укатанных до твердости, глинистых, или разъезженных, поросших травой между колеями, полевых, с колосьями и соломой, едва приметных среди жнивья, заброшенных. «Большак», по которому нужно было ехать, вдруг непонятным образом раздваивался – так, что с совершенно одинаковой вероятностью можно было принять за правильную любую из веток, – или вдруг поворачивал резко в сторону, и я в растерянности останавливался, считая, что теперь-то уж вот наверняка сбился с дороги. Когда я выезжал в поле, то где-нибудь слева или, наоборот, справа видно было деревню, но «большак» как ни в чем не бывало тянулся мимо, оставляя ее в стороне, не сворачивая. И я понятия не имел, какая именно это деревня. И, как назло, не было встречных.
Солнце, которое светило то в левый, то в правый висок, то, большей частью, прямо в лоб, в конце концов напекло голову, и пришлось опять надеть велошапочку с козырьком, за которой я, слава богу, не поленился специально съездить в магазин в день отъезда.
Наконец, проехав какой-то лес, в полной уверенности, что окончательно сбился с пресловутого «большака», в поле увидел я нескольких человек, бредущих по дороге навстречу. Не успел я слезть с велосипеда и стать на землю, чтобы спросить у них о дороге, как услышал вопрос женщины, которая шла первой:
– Где деревня Алекино́, не знаете?
– По-моему, там, впереди, – сказал я с появившейся вдруг уверенностью от ощущения твердой земли под ногами. – А впрочем, давайте разберемся, у меня ведь есть с собой карта.
Я вытащил трехкилометровку, люди обступили меня, а когда наконец последовал традиционный вопрос и так же ставший традиционным мой ответ, то лицо женщины, как, впрочем, и лица ее спутников – двух девушек, пожилого мужчины и паренька, – приняли такое неподдельно симпатизирующее выражение, что я понял: сосед мой посрамлен окончательно и бесповоротно.
Расставшись с ними, я так энергично налег на педали, что, как птица, взлетел на пригорок и ощутил вдруг, что ничуть, ну совсем не устал, на земле конечно же больше хороших людей, воинствующему невежеству нужно давать решительный отпор, а то, что я вот тут немного заплутал, – даже здорово, даже, наоборот, интересно, и бог с ним, с направлением, – главное ведь то, что я действительно, по-настоящему путешествую. И это ведь так здорово!
Деревня, которая показалась сразу же за пригорком, была Алекино́.
Успокоенный, радостный от сознания собственных сил, гнал я от Алекина до Трубецкого – чувствовалась, ох как чувствовалась близость Оки: бесконечные крутые подъемы и спуски, речушки и ручейки – так что половину дороги опять пришлось шагать под гору и в гору, вцепившись в ускользающий из рук никелированный руль. И все же так вольно было вокруг – такие живописные неожиданные изгибы дороги, деревья, кустарник, поля, – что даже застилающий глаза пот и тяжелый велосипед не мешали оглядываться по сторонам, смотреть.
Фляга была пуста, и я решил, что в Трубецком нужно обязательно попросить молока, а флягу наполнить из какого-нибудь колодца.
На окраине Трубецкого чувствовалась работа – тарахтели комбайны, стоя на месте; что-то деловито разравнивал бульдозер. На вопрос о молоке меня послали дальше, в глубь Трубецкого. Живописная узкая улочка, плавно идущая на спуск, маленькие хатки в кустах сирени…
В нескольких аккуратных чистеньких избах с пристройками для скотины сказали, что молока у них нет. Может быть, виной тому был непривычный мой вид – ни рубашки, ни майки, голые ноги и только коротенькие брючки, шорты? Когда одна бабка, завидев меня, приближающегося, еще из окна истошным голосом закричала вдруг «нету! нету!» – даже не выслушав мою просьбу, – я обиделся, разозлился и повернул велосипед назад. Однако тут же, заметив, видимо, мои эмоции и поняв, сама остановила меня полная женщина, черноволосая, в красной кофте, и пригласила следовать за собой. По дороге женщина посмеялась над моей обидой, потом спросила, не в армии ли я служу, брюки вроде армейские, и не на побывку ли со службы еду. А то у нее дочкин жених в армии служит и на меня похож. Не встречал ли я его часом? Я разочаровал тетю, но она все равно привела меня к крыльцу, успев еще сказать, что дочка у нее – красавица, и велела ждать.
Великолепная все же деревенька Трубецкое: недалеко от Оки, крутые кривые улочки, много деревьев, сады…
– Вальк, а Вальк, там Петя приехал, иди посмотри, – послышалось за стенами избы. Стукнула дверь, и на пороге явилась в дверной раме, как в рамке, молоденькая милая девушка в светлом платье. Взявшись руками за притолоки, она внимательно и, как мне показалось, слегка недоброжелательно рассматривала меня. Милитриса Кирбитьевна в ожидании прекрасного царевича на вороном коне.
– Правда, похож? – сказала женщина, выглядывая из-за ее спины.

