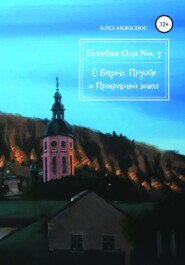 Полная версия
Полная версияГолубая ода №7
Помимо картин и живописных образов – книги, многие сотни разных книг, старых и молодых, тонких, как катехизис, и толстых словно корзина для пикника в окрестностях Догвиля, глупых, как отдышка старого каторжника и умных, как дневной фонарь Диогена из Синопа, – все эти книги составляли для него основу жизни, да что там основу, – саму жизнь, материю бытия.
Книги вошли в его жизнь с самого раннего детства, он ещё не умел читать и распознавать буквы, но каким-то неведомым и причудным образом он умел воспринимать их содержание, лишь только его маленькие ручонки прикасались к ним.
Может быть отсутствие внимания матери в детстве и её вечное неприсутствие, отдаленность и эмоциональная холодность сделали для него книги существами вечного порядка, защитниками от вселенского хаоса.
Мысли о матери порождали в нём странные и тревожные воспоминания, которые более походили на эпический кинематограф, чем на отголоски призрачной реальности:
«По каналам, укрытым густым утренним туманом, скользит лодка, сопровождаемая белыми лебедями, в лодке – Лоэнгрин, поющий грустную песню. Чайки в небе кричат как кошки и превращаются в валькирий, завывающих, как сирены.
По узким набережным идут нюрнбергские трубадуры. Король Амфортас стоит с Кубком Вечной Жизни на гребне каменного моста и призывает Титуреля. Веселый смех раздается на набережной, молодые влюбленные бегут друг за другом навстречу своему счастью. Кто они? Не Тристан ли с Изольдой? Да, это они.
Их задорный смех полон жизни и счастья, в нем нет предчувствия скорой смерти и утраты.
Он угасал стремительно, так, как огарок церковной свечи заходится в безудержном слишком ярком пламени напоследок, превращая воск за секунды в невидимую субстанцию трансформированной энергии.
Запрокинув свою седую голову, со спутанными и давно немытыми волосами, этот умирающий человеко-бог, кумир миллионов, как-будто приобщался чему-то непостижимо высшему, невидимому при жизни и абсолютно безысходному, надвигающемуся на него, как грозовое темное небо, решившее участь людей без их ведома и какого-либо участия.
Мария поднесла к его горячим от долгой лихорадки губам ложку согретого вина. Вагнер стал судорожно пить, захлебываясь и расплескивая содержимое. Он впадал в забытие, принимаясь смотреть на стремительно ускользающий от него мир то глазами Амфортаса, то впавшего в высшую стадию любовного безумия и экстаза, юного и сентиментального Тристана.
Вагнер взглянул на золотые кудри Марии и словно, наконец-то, увидев окружающие его вещи в их истинном значении, встретился взглядом с янтарными, теплыми как солнечные лучи, глазами Изольды, которые через миг превратились в глаза его матери Иоганны, а потом – глазами Марии.
Он как-будто окунался в бездонные изумрудно-бирюзовые глубины ее лона. Кого именно? То ли своей матери, давно ушедшей и все еще такой любимой и пахнущей лесными травами и каплями проливного дождя; то ли Марии, чьи нежные руки с запахом пармской фиалки заботливо укрывали его пледом от сквозняков и утренней влажной прохлады с каналов.
Все они, эти женщины, слились в какой-то единный, по-своему дорогой и такой древний образ, который перед его угасающим взором предстал лазоревой плоскостью бескрайнего океана, принимающего в свои глубины раскаленный шар вечного, как жизнь и смерть одновременно, – солнца. Гибели и возрождения всего живого и настоящего».
Он часто вспоминал детство, точнее, некоторые моменты из детства, связанные с его пребыванием в деревенском поместье своей давно умершей бабушки: зимние дни в конце ноября, когда первый девственный снег покрыл собой всю землю и он катался на деревянных санках со снежных холмов. Земля была безвидна и пуста, над крышами домов вился печной дым.
Затем он вспомнил жаркие летние дни в июле, когда он с утра до обеда беззаботно валялся на стёганом одеяле позади деревянного дома, во дворе, рядом с колючими кустами малины и ароматной чёрной смородины.
Его память цеплялась за образы, казалось бы, давно забытые, но такие яркие и эмоциональные словно это было лишь вчера: он с деревенскими ребятами прибежал после купания на старое кладбище, расположенное на песчаном откосе, над тёмной и быстрой рекой, в сосновом бору, тёплом и ароматном от солнечного света.
Здесь, среди маленьких надгробных холмиков, – самая сладкая земляника, крупная и невероятно вкусная. Ребята собирают ягоды в ладони и большими горстями лакомятся земляникой.
Рядом с разрытой старой могилой были разбросаны жёлтые человеческие кости и из земли виднелся небольшого размера череп. На его лобной кости были остатки редких каштановых волос. Он повертел лёгкий череп в своих руках и попытался понять, как это раньше было жизнью, как это мыслило, любило, страдало.
Мыслить о смерти невозможно, его сознание противится этому, жизнь не может прекратиться, как ему кажется, хотя то, что он держит сейчас в своих руках красноречиво говорит о другом. Но думать об этом ещё рано, ведь смерть – это то, что всегда происходит с другими, а не с ним.
После случайной встречи с этим странным напоминанием о смерти, вернувшись домой, он не может заснуть,: он лежит в кромешной темноте и вслушивается в звуки, в целый сонм звуков, выплывающих из темноты: где-то, в глубине старого дома, скрипит половица; ветка черёмухи стучит в оконное стекло; тревожно тикают настенные часы, отсчитывая ускользающие минуты, в том числе и для него.
Уже ближе к утру ему снится странный сон, мрачный и пёстрый, как картинки в готическом калейдоскопе, вероятно навеянный неожиданной находкой на деревенском кладбище накануне:
«В этой комнате темно, несмотря на яркий свет за окном.
Здесь всегда темно. Как и в моей душе. Беспроглядный мрак.
Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Впрочем, слова излишни: "Ведь слово метит мысль клеймом неточности…", как верно заметил однажды драматург Кристофер Марлоу.
Для того, чтобы Вы отчетливо могли представить себе бескрайнюю бездну моей тоски, я расскажу Вам немного о Любви. О той Любви, про которую не пишут в романах, и про которую никогда не поют оперные бельканто, томно закатывая глаза. О той, которую безумные поэты не сравнивают, впадая в пошлость и лицемерно приторную сладость, ни с алой розой, ни с дыханием морского бриза, ни с утренней росой на поддернутых туманом медвяных лугах.
Я расскажу Вам о Любви, которая приводит к безумию, впрочем, она и есть само безумие.
Я видел, как она танцует. Облаченная в тончайший, подобно воздуху, легкий виссон, Омелия кружилась в лучах утреннего солнца на цветочной поляне в самом дальнем углу обширного парка, прилегающего к нашему фамильному замку. Я очарованно смотрел на нее, спрятавшись за массивным стволом столетнего дуба, росшего здесь еще со времен нормандского завоевания. Омелия кружилась в теплом воздухе, подобно невесомому мотыльку-лепиру, летящему на призрачный источник света.
Я завороженно смотрел на нее часами и часто жалел о том, что не могу, как многочисленных мотыльков из своей знаменитой коллекции, также разместить ее в одно из пестрых и хрупких собраний. Она гуляла по парку, я следовал неотрывно за ней, прячась за кустами самшита и зарослями дрока. Омелия пила чай на террасе, я незаметно разглядывал ее тонкие черты из окна своего эркера. Иногда она купалась в пруду среди цветов водяной кувшинки, я неизменно лицезрел ее стройное, как у некой греческой богини, тело, закрывшись плотной стеной высокого камыша.
Ее красота не давала мне спать, не отпускала ни на минуту мои мысли.
Красота Омелии меня мучила и постоянно требовала выхода моим эмоциям и странным, наполненным какой-то неопределенной тревогой, чувствам.
Красота есть очарование эфиром. Красота – превыше морали и этики. Красота – губительна.
Я совсем потерял аппетит, стал замкнут и сосредоточен лишь на мыслях о красоте Омелии. О ее бренной слепой красоте и внезапности смерти, которая может в любой момент лишить меня лицезрения этой красотой, а с ней и смысла жизни, казалось бы, давно потерянного.
Безумные фантазии будоражили мою испуганную и надломленную душу и тогда я подумал, что, обладая властью над ее смертью, я буду обладать властью и над ее бренной красотой.
Потом было всё, как в бреду: я перестал прятаться и стал близко подходить к ней во время прогулок по парку и грациозных танцев на солнечной поляне. Я пытался с ней заговорить, но Омелия никогда не отвечала мне. Ни одного раза. Я был в отчаяньи. Какая-то невыносимая черная горечь наполнила мое сердце до краёв.
Однажды, осмелев, я подошел к ней возле мраморного фонтана и пытался схватить ее за руку, чтобы поговорить. Но она выскользнула, как дуновение ветра, и безвучно унеслась прочь. Я снова впал в отчаянье и не знал, что делать.
Я забросил свою коллекцию бабочек и думал часами напролет только об Омелии. Я перестал ориентироваться во времени и пространстве и, иногда, проходили месяцы, а я этого не замечал. Мои дни пролетали в полном забытьи. Я перестал думать, мои чувства словно бы умерли. Безразличие и апатия поселились во мне. Вот и сейчас, когда Омелия проплывает передо мной вдоль стройного ряда дорических колонн мраморного зала, порхая в светящемся облаке солнечного света, я лишенный эмоций и чувств, просто наблюдаю за ее грациозным полетом. Она меня не видит.
Я как будто умер. Растворился в бесконечной пелене однообразных и унылых дней. Единственное, что ненадолго оживляет мою душу и приводит ее в беспокойное состояние какой-то неясной тревоги и тоски – это небольшой участок парка рядом со старым столетним дубом, где земля отчего-то свеже вскопана и среди ароматной травы возвышается небольшой аккуратный холмик.
Всякий раз, когда я прохожу мимо этого места, мое сердце начинает бешено колотиться и в высохшем рту появляется отвратительный металлический привкус какой-то непоправимой тоски. Мне становится нестерпимо тревожно, и я сразу же убегаю прочь, продираясь напролом сквозь острые кусты шиповника и малины, раздирая в кровь свои руки. Бегу не оглядываясь. Как в бреду.
Барон умолкает. Откидывает свою рано поседевшую голову на спинку кресла. Затем, как если бы о чём-то вспомнив, с силой вдавливает свои руки, покрытые засохшими темно-бурыми пятнами, в подлокотники обитого гобеленовым штофом кресла.
Он толи спит, толи грезит о чём-то, провалившись в глухое забвение. В комнате – полумрак и, кажется, что всё погружено в покой и безмятежность. И только прозрачные голубые глаза молодой госпожи с портрета, обрамленного траурной рамой, неотрывно и настойчиво смотрят на, застывшего в ледяном холоде безмыслия, барона.
На его каменное, как будто вырезанное искуссным камнерезом, лицо; мраморные безжизненные руки, похожие на когти хищной птицы; на белую шелковую рубашку, сплошь покрытую темными засохшими пятнами, расцветающими на ткани в тревожном полумраке, как бутоны экзотической нежной розы…».
Он проснулся от тёплого солнечного света, пробивающегося сквозь узкую щель гардин, льющегося словно медвяная лава в тёмное и приглушенное пространство ещё дремлющей спальни.
Тёплый, почти горячий, луч золотого цвета ласкал его лицо, целовал его губы и щекотал ресницы, словно невидимая любовница нежила его ещё сонного.
Стоило только вынырнуть из дремлющих глубин в реальность наступившего утра, как мириады мыслей тут же заполняли его сознание плотным, словно полноводная река, потоком.
Сначала он почему-то вспомнил о странных и противоестественных привычках отшельника Дез Эссента, ужинающего в пять утра и пьющего кофе, вино или чай ночью.
Затем, глядя на вибрирующий солнечный свет, увлекающий в себя миллиарды каких-то светоносных существ, он вспомнил меланхолические строки одного из стихотворений Реми де Гурмона:
«Я буду мечтать о свечах, о кольцах, об агонии,
О слезах женщины, об их печали.
Я буду мечтать о кладбище, где лежит, отдыхая,
Столько ушедших, далёких, забытых,
От которых лишь осталась трава густая
Да имена на стёртых замшенных плитах.
Когда мы выйдем, будет темно на дороге,
Мы будем как белые призраки во мраке,
Мы вспомним о жизни, о смерти, о Боге.
Об оставленной дома собаке».
Сентиментальность момента.
Интимная тишина осознания текущего мига.
Такое происходило с ним не часто, но каждый раз это было подобно священнодействию: он остро и необычайно ярко чувствовал, что время безвозвратно изменилось и то, что видят его глаза сейчас, то, что чувствует его обоняние и то, с чем имеет дело его слух, имеет совсем иную природу, несёт иную окраску, да и в корне отличается от всего того, что он видел, слышал и ощущал гораздо раньше. Когда это было? Казалось бы, простой вопрос ставил его в безнадёжный тупик.
Он чувствовал разницу между временами на каком-то метафизическом, сложно объяснимом человеческим языком, уровне. Почти интуитивном, как эпические сказания кельтских племён о Кухулине и его чёрном псе.
Эта разница была примерно такая же, как между реактивным снарядом «ФАУ-2», летящим со скоростью пять тысяч миль в час в сторону Лондона, и макетом самолёта из песка и пальмовых листьев, построенным аборигенами с островов Меланезии в лучших традициях культа карго, если такое сравнение, конечно, приемлемо.
Он вновь закрыл глаза, и комната погрузилась во тьму. Аромат пармской фиалки и гортензий медленно проник в его сознание.
Несмотря на плотно закрытые глаза, он всё же что-то видел. Но что именно это было?
Как назвать человеческим языком это внутреннее пространство виденного, несмотря на закрытые глаза?
Он не смог ответить на этот вопрос: внезапно пространство вокруг него, а может, внутри него, преобразилось, став намного ярче, прозрачнее и как-будто глубже: он «увидел» тихое полуденное небо с плывущими в нём розовыми облаками; ажурный город, цепляющийся за берег реки, с резными церквями, протыкающими своими острыми шпилями небесную лазурь.
Золотой речной песок, суда и лодки. Хрустальный колокольный звон, плывущий над терракотовой черепицей низких крыш. Люди в чёрных и белых одеждах, чинно застывшие на речном берегу триста лет назад.
Что так настойчиво напоминало ему это видение? Где видел он этих людей и эти низкие крыши, это пастельное, словно фламандские ткани, сияющее небо?
Если закрыть глаза и напрячь слух, то можно расслышать их разговоры: о королях и капусте, об ангелах, застывших в камне на портале городского собора; об испанской армаде и цене на твёрдый сыр и сельдь; о возможной войне и странных явлениях природы; о молодых ведьмах, сожжённых инквизицией в Хертогенбосе, и тайном саде земных наслаждений; о странном художнике, смотрящем своим бессмертным взглядом на этот живописный пейзаж уже триста шестьдесят лет подряд и его милой служанке, сохранившей секрет жемчужной серёжки в глубокой тайне не только от людей, но и от времени.
Даже в это тёплое, дышащее горным воздухом, весеннее утро девятого апреля, его настороженность относительно того, что природа одержит победу над человеком, была понятна: цветущие каштаны и магнолии на аллее Лихтенталер, пылающее море полевых цветов в парках и садах, сам воздух, казалось бы, был соткан из сладостных ароматов, нестерпимо возвышающих жалкую человеческую душу до недоступных высот мифического Эдема.
Он медлил, чтобы его мысль могла поспеть за мечтой, которую он долго лелеял, – так, уезжая навсегда, смотрят в день отъезда на пейзаж, который хотят унести с собой в памяти.
Так угрюмому парижанину, который возвращается из Венеции домой, во Францию, последний комарик напоминает, что Италия и лето ещё не совсем скрылись вдали.
В последний раз, когда он ехал из Бад Вильдбада в Баден-Баден по старой железной дороге, ползущей словно доисторическая гигантская змея вдоль живописной горной речки, он даже подумал о том, что если бы братья Гонкур вручали премию за самые живописные места и ландшафты, то какой из этих городков стал бы победителем в этом конкурсе? Он сам не мог определиться, хотя его недолгое шапочное знакомство с Прустом давало призрачную надежду легко разрешить это противоречие в пользу последнего.
Он вспомнил строки уже умирающего затворника из Комбре и они, эти строки, примирили его с этим немым и пёстрым великолепием вокруг, с этим ароматным воздухом, цветущими деревьями и горами Шварцвальда, голубеющими на ускользающем вникуда утреннем горизонте.
И ведь раньше ему казалось донельзя скучно всё, что относилось к космополитической жизни Бадена или Ниццы, когда зиму было принято проводить на Английском бульваре, а лето под баденскими липами, и ему открывалась болезненно-прекрасная значительность этих мест, словно воспетая поэтом.
Прогуливаясь по перрону баденского вокзала, он про себя всё повторял и повторял эти прустовские строки, как-будто пытаясь найти в них что-то оправдывающее свою собственную слабость в отношении всего прекрасного и непрактичного, всего, что так мило и сердцу и душе, и так бессмысленно, а порой и крайне глупо, как для пустого кармана, так и для социального положения.
Он не искал виноватых, не проклинал обстоятельства, он лишь никак не мог примириться с той мыслью, почему он такой сентиментальный и ранимый в отношении явлений природы и живописных ландшафтов, которые, как состояния его собственной души, являли для него столь болезненные и одновременно прекрасные переживания, что он был готов стерпеть многое, ради этих чудесных мгновений единения с непостижимым прекрасным.
Ведя этот странный внутренний диалог и вдыхая едкий паровозный пар, он разволновался, как ребёнок, и чтобы снять напряжение, зашёл в привокзальный буфет.
Внутри было безлюдно. Сквозь давно немытые окна в помещение проникали золотые лучи солнечного света, как-будто только что вышедшие из-под кисти одного из фламандских художников.
Он попытался вспомнить его имя, но тщетно, его память не проявляла чудес. Он заказал двойную порцию Гленморанжи и тут же выпил его, закрыв на мгновение глаза и наслаждаясь тёплыми торфяными нотками ароматного напитка.
По барной стойке ползала жирная зелёная муха, вероятно, уже опьяневшая от янтарных капель пролитого шотландского виски.
Солнечный луч, пойманный одной из капель, преломляясь в ней, сиял как фрагмент жёлтой стены на пейзаже со знаменитой ведутой старого Дельфта.
Он снова пытался вспомнить имя художника, но оно было неуловимо, он бросил эту безнадежную затею и заказал ещё одну порцию Гленморанжи.
Мозаика утра как-то не складывалась.
Неизвестно зачем он купил в привокзальном киоске открытку с репродукцией картины Вермеера Дельфтского «Meisje met de parel» и глупо уставился на нее, простояв так на безлюдном перроне минут десять.
Завороженный изображением взгляд не спеша скользил по кобальтовым волнам головного убора девушки, плавно перетекая в золотые ленты повязки. Растерянный взгляд хозяйки жемчужных сережек, возможно купленных в одной из ювелирных лавок Брюгге или Антверпена, безмолвно вопрошал из туманного прошлого о чем-то таком, о чем уже невозможно было догадаться нашему неотягощенному непрактичными знаниями современнику: шла ли речь о цене на сыр и селедку на воскресном рынке в Дельфте; о предстоящей войне с Испанией; о цвете облаков, задевающих своими пышными фламандскими юбками резные каменные башни готической церкви лютеранского прихода, а может о такой тайне, которая отражалась на перламутровой поверхности жемчуга скудным светом северного неба и была унесена с собой в могилу художником и его миловидной служанкой.
Опьянение ещё давало о себе знать, и его прихотливая память услужливо «вынимала» из своих тайников, казалось бы, уже давно забытые воспоминания, способные «оживить» даже самых меланхоличных представителей рода человеческого.
Он вдруг явственно вспомнил один из музеев старого Кольмара и полутемный зал с большим полотном на стене, на которое он неотрывно глядел добрых полчаса, а потом, закрыл глаза и услышал всё то, что ему рассказала эта ветхая, вся в изысканных кракелюрах, картина:
Меланхолия Лукаса Кранаха
«Конечно, глупо, на первый взгляд, спускаться в ад после такого великолепного и сытного, как никогда, обеда. Одно только воспоминание о роскошном крабе, достойном кисти самого Уильяма Хеды, или потрясающем Côte-Rotie, рубиновый цвет которого свел бы с ума Рубенса, лишают меня дара речи и способности воспроизвести хотя бы одну мало-мальски продуктивную мысль.
Поэтому, я просто слушаю затейливые звуки меланхоличной флейты из детских фантазий Вилибальда Глюка и смотрю в окно, прорезанное моими странными снами в полотне, похожих на сосновый лес, будней, на удивительный инфернальный ландшафт, скрывающий в чреве своего пламенеющего горизонта восхитительные и недоступные простому смертному вершины вогезских гор.
В 1532 году я был очень маленьким, настолько маленьким, что владельцы замка Готторп меня просто не замечали. Они обходили меня стороной и холст на моих плечах совсем обветшал, а краска, в тех местах, где мастер ее не жалел и положил густым щедрым слоем, покрылась причудливой сетью тончайших морщинок, кракелюр. Я пошел вослед Одиссею, чтобы освободить из Аида свою память о временах, когда мое детство еще не было столь незаметным и, казалось бы, пустым и никчемным. Чтобы как-то скоротать время в пути и уменьшить ожидание неизвестности, я прихватил с собой Орфея, похоже сходящего с ума без своей Эвридики, о которой он говорил ни на минуту не умолкая.
Годы проходили мимо нас, не оставляя о себе воспоминаний, мы видели причудливые города, которые перестали существовать еще до нашего рождения и свирепых полулюдей, закованных в железо и сталь, падающих с диких и черных коней в пурпурные воды Селифа, кипящего от человеческой крови и зловонной желчи. Такое нелегко забыть и если бы не меланхоличные звуки флейты Глюка, клянусь Создателем, в первом же монастырском дворе, нас признали бы невменяемыми и бросили в подземелье, несмотря на дары, которые мы приносили в каждое из затерянных в истории человечества несуществующих аббатств: была ли это смирна или благоуханный розмарин с кардамоном, дикие утренние травы из Прованса и ноты Шуберта, потерянные им возле речной мельницы; откормленные, как лесной вепрь, фазаны и сладостный, как медовая роса, поцелуй одной восточной принцессы, имя которой уже не восстановить, даже если воскресить из мертвых такого авторитетного мага и мистика, как Фома Кемпийский.
В одной живописной местности, не доходя до ада примерно тридцать дней, мы встретили на лесной опушке трех прелестных обнаженных малышей, самозабвенно играющих в обруч и шары. Вокруг кричал лес всем своим многоголосием, травы зеленели и превращались в тлен, на дне ледяного ручья маленькая серебристая форель вила гнездо для крохотных утят, в дупле большого столетнего дуба неугомонно копошились пчелы. Мы прилегли в тени матушки-ивы и погрузились в сновидения, уносящие нас в те времена, когда Кранах-Старший еще не встретил женщины с крыльями и ведьмы, столь любимые населением южной Германии, еще не имели привычки танцевать каждую ночь полнолуния на скрытой во тьме и тайне вершине Блокберга.
Мимо нас пробежала молчаливая собака, держащая в пасти ключи от королевских покоев, в коии вскорости будет помещена безмолвная меланхолия и ее равнодушные к мировой скорби дети, гоняющие как ни в чем не бывало огромные, как луна, шары сквозь тонкий обруч пустых ожиданий. Кто-то начертил невидимым перстом на лазурном небе символ веры, и я отчетливо понял, что 1532 год будет последним в моей простой и незамысловатой истории. Собака виляла хвостом, две фазанихи бродили среди гусиной травы и искали корень мандрагора; та, которую я пытался отыскать в аду, молчаливо сидела возле окна с видом на вогезские хребты и самозабвенно стругала перочинным ножом ивовый прутик, обещанный ей голой и счастливой от бессмысленной игры ребятне.
Я покрывал лаком последний незавершенный кусок полотна, там, где дневные тени удлиняются и переходят под власть ночных светил и полной неизвестности. Я обратил внимание на твои крылья и, чтобы как-то закрепить наш молчаливый союз, предложил тебе бокал терпкого, как слеза херувима, поммара и гроздь лесного винограда. Ты сказала, что поступь дней стала слишком тяжелой, а в ткани будней слишком заметны прорехи, нанесенные нашим неверием и, что лучше просто сидеть и слушать, чем все время о чем-то говорить и тратить силы на битву с ветряными мельницами. Согласился ли я с тобой? И да, и нет, конечно, заманчиво было быть твоим ивовым прутиком, безмолвно доверяющим свою плоть твоим опытным рукам и мыслям, но, однажды, обретя силу в траве и в прозрачности лесного родника, уже невозможно представить себя птицей, которой можно все, кроме того, чтобы петь.
Ты с удовольствием пила вино и улыбалась точно так, как на той картине, которую не успел крестить огнем в камине Лукас Кранах в январе 1532 года, это был четверг или суббота, один из дней, когда загадочная лень не позволяет сварить даже кофе, поэтому приходиться весь Божий день пить одно лишь красное вино и лакомиться устрицами и медом с горных пасек Альгойя. Наверное, именно тогда я и поцеловал тебя в первый раз, когда ты озябла от лунного света и невозможности лишить свои крылья полета. Мятная луна сияла в небе, словно начищенная кухаркой сковорода, пахло жареной рыбой и розмарином.

