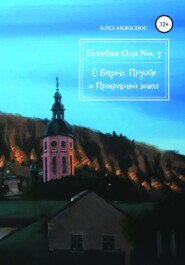 Полная версия
Полная версияГолубая ода №7
Но самым большим спросом пользовался шёлк из Ирана и Самарканда для гигиеническим целей, наряду с сибирским полугаром, изготовленным в шаманских поселениях Восточной Уйгурии.
Недовольство масс текущим положением нарастало и власть, уверенная в своей безответственности и безнаказанности, вводила по мере расползания «короны» по «телу» Европы и Нового света так называемые «особые положения» и «чрезвычайные режимы функционирования»: по улицам пустых городов передвигались конные патрули, состоящие из гессенских кирасиров, бранденбургских гренадёров и нигилистической молодёжи фольксштурма.
Последние были особенно жестокими и встреча с ними случайного прохожего обычно заканчивалась избиениями и даже смертью. Облачённые в чёрные бархатные плащи и широкие гасконские береты с серебряным черепом в виде особого знака неограниченной власти, они чувствовали себя подлинными хозяевами времени.
Ему бесконечно было жаль людей, которые с поспешностью готовы верить во всё, чтобы им не преподнесли, начиная от библейского изгнания из Эдемского сада и мифа об Иисусе из Назарета, и, заканчивая теорией полой земли и высадкой первого человека на поверхность Луны.
Отсутствие критического взгляда на мир окружающий – это не добродетель, это глубокий внутренний порок каждого, кто лишён собственных неизменных ценностей, того стержня, на который нанизывается панвсемирная драма, весь этот космический фарс человеческой экзистенции.
Поспешность, вот в чём всё дело, как сказал однажды Умберто Эко устами своего героя Уильяма Баскервильского в романе «Имя розы». Конечно, мир не стоит на месте, и сейчас мало кому придёт в голову более чем странная мысль писать письмо или какое-нибудь там эссе гусиным пером с помощью чернил или лимонного сока, чтобы сохранить тайну, как это делали в своё время Александр Дюма или Марсель Пруст, к примеру, но, глядя на массы современных людей с мобильными телефонами или планшетами в руках, можно и нужно придти к неутешительной мысли о том, что скоро все эти современные гаджеты вытеснят бумажную книгу навсегда, а вместе с тем пропадёт и эстетика прикосновения к печатному слову, к этому особенному, ни с чем несравнимому ощущению, когда Ваши пальцы прикасаются к шуршащей тайной бумаге, Ваши ноздри вдыхают этот особенный бумажный запах и аромат типографской краски, застывший в чёрном контуре строгих литер, в размер «цицерон» или «боргес».
Конечно, всё это чистая сентиментальщина и абстрактное душевное нытьё, но чёрт побери, ведь это совершенно иная эстетика восприятия окружающих нас предметов и мира в целом: это всё равно, что совсем забыть о существовании качественной пробки для вина, которую в наши безумные времена могут себе позволить лишь очень престижные производители элитарных вин, и привыкнуть к безвкусной алюминиевой крышке с резьбой, от которой сразу создаётся впечатление, что вы пьёте не вино, а какой-то третьесортный шмурдяк, по типу непонятного в далёкие советские времена пролетарского пойла под живописным названием «Золотая осень», которое после первого же глотка отсылает вас к символическому путешествию, полному меланхолии и сентябрьской тоски, по одноименному полотну русского художника-передвижника Исаака Левитана, «мастера пейзажа настроения».
Если же развитие нанотехники будет продолжаться с той же быстротой что и сегодня, а иного мы ожидать, видимо, не можем, то в скором времени мы будем лишь находить сомнительное отдохновение, повторяя про себя бессмертные строки, выгнанного из СССР за тунеядство, венецианского поэта Иосифа Бродского:
«Я сижу в своём саду, горит светильник,
ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых…».
В тёмные времена он обращался к памяти и она, будучи стихией милосердной, никогда его не подводила.
Он закрыл глаза и обратил свой внутренний взор к будущему, заглянув в прошлое.
Перед ним, словно призрачный остров в безбрежном океане, выплыл старый и такой далёкий, как тысячи прошлых жизней, Брюгге.
Он любил этот город, затерянный среди бесцветных полей Фландрии, запах королевских белых лилий и платанов всегда сопровождал эти воспоминания. Память шумела водой каналов и шелестела взмахом лебединых крыл.
Он, словно ведомый невидимой «нитью Ариадны», вышел с площади Маркт, с той её части, где скромно приютилась древняя базилика Святой крови, и, нырнув в готическую арку в начале улицы Слепого осла, оказался возле безлюдного Рыбного рынка, по утрам оживлённого и шумного от людской толпы.
Затем его память стремительно пронеслась через благоухающий жимолостью и самшитом Парк королевы Астрид, полдюжины горбатых каменных мостов, мимо здания средневековой биржи на набережной канала и внезапно остановилась перед высоким бронзовым монументом, в чертах которого он узнал великого Яна ван Эйка.
И как в предутреннем сновидении он снова всё увидел, как в реальности:
«Когда-то в городе Брюгге был странный средневековый обычай: входить в дом, где только что умер человек, босиком, оставляя перед входом деревянные сандалии и прошлогодние сны. Так продолжалось до того момента, пока эпидемия страшной бубонной чумы, разразившаяся в 1429 году, не опустошила город полностью, лишив его населения и каких бы то ни было снов.
Светало.
Они выпили молча по бокалу бургундского вина и посмотрели в открытое окно, в глубине которого сверкала на солнце мокрая от дождя терракотовая черепица на крыше кафедрального собора Святой Богородицы.
Мелодичные звуки большого карийона на башне Беффруа возвестили о приходе полдня. В комнате пахло апельсинами и нежной пармской фиалкой. Зеркало, драпированное предутренними грезами и несбывшимися желаниями, отражало в своих муаровых глубинах силуэты двух незванных гостей, ни разу еще не ступавших на порог этого дома.
Чета Арнольфини в каких-то странных деревяных башмаках тайно наблюдала через двойное выпуклое зеркало в мастерской художника, как обедал Ван Эйк. Они явно проголодались с тех пор, как начали ему позировать, а было это в середине декабря прошлого года, и аппетитные запахи с той стороны зазеркалья сильно возбуждали их.
На широком деревянном столе, уставленном красками и разнообразными инструментами художника, в большом глиняном блюде дымилось каре ягненка с розмарином, с запечеными сердцевинами артишока и зеленым аспарагусом.
Ван Эйк смачно отрыгнул, и сделал большой глоток рубинового, как сердце страстной куртизанки, терпкого поммара.
Все его жесты выдавали в нем непревзойденного живописца и жовиала. Он явно знал толк не только в своем ремесле, но и в роскошной трапезе, занимавшей в его жизни далеко не последнее место.
Арнольфини внимательно следили за каждым его движением. Они не могли дождаться момента, когда Ван Эйк притронется к главному блюду трапезы – копченому угрю из Остенде.
Это было безумно интересно, после того, как занявшись любовью на фламандских простынях, в той небольшой комнатке в Брюгге, на улице Слепого осла, мы варили себе кофе прямо на огне камина, а потом, уставившись в окно, декорированное замысловатым цветным витражом, наблюдали за одинокой фигурой Ван Эйка, беспокойно бродящего в утреннем влажном тумане на площади, перед готической базиликой Святой крови.
Намерения его были непонятны, но ты предположила, что возможно, художнику понадобилось несколько капелек крови Христовой, привезенной из Святой земли Дитрихом Эльзасским в 1150 году, чтобы придать одеждам Богородицы на картине цвет истинной любви и веры, воспламененный добровольной жертвой Спасителя.
Ты обнимала меня за плечи, кутая в свои невидимые одежды, как-будто пытаясь сохранить это шаткое равновесие между жизнью и смертью и соединить наши души в некоем, только нам понятном, союзе, невесомом и эфемерном, как пламя церковной свечи в соборе Христа Спасителя.
Наброшенный тобой на голое тело зеленый пелисон, подбитый мехом горностая, сливался по цвету с безудержной майской зеленью, врывающейся своим свежайшим ароматом в наш альков из близлежащего парка королевы Астрид.
– Будь осторожен в обещаниях: хоть что плохого в обещаниях? «Любой в обещаниях может стать богатым, – сказала ты мне, сославшись на Овидия и на отражение Веласкеса в зеркале в его незабываемых «Менинах», сюжет которых мы с тобой придумали в одном из наших совместных сновидений, – ты остался навсегда в моих снах, когда внезапно покинул меня в то дождливое утро, до сих пор отражающее на поверхности своих луж горький привкус нашей мимолетной разлуки».
Чтобы приготовиться к одиночеству, нужно непременно разделить его с кем-то. С кем-то, кто однажды уйдет из твоей жизни навсегда, поселившись навеки в твоих снах. Я помню, что ты назначила мне встречу на безлюдной улице Слепого осла в тот час, когда германские войска подвергли беззащитный Брюгге бомбардировке, уничтожая навсегда тончайшее кружево резных, точёных башенок и шпилей.
Город изысканного вкуса, полный бесценных сокровищ высококультурной старины, столь любимый нами, был обречен на смерть. То, что недовершила чума в эпоху Средневековья, сделала германская полевая артиллерия во время высокоразвитого гуманизма в начале двадцатого века.
С того самого дня ты больше не можешь слышать токкат и скрипичных сонат Баха. А когда-то любимые тобой пфальцские и гессенские вина навсегда исчезли из наших совместных застолий.
Иногда, во сне ты начинала говорить по-немецки и тут же просыпалась в холодном поту, словно тебе снились кошмары.
Было без четверти пять, когда небо занялось огненными сполохами и грохот от немецких гаубиц расколол наш день на до и после.
Ты сидела на полу, на мягком персидском ковре расцветки маренго, переходящей в пламенеющий пурпур, пила густое, как тень от мельничного колеса, вино и безучастно смотрела в открытое окно, вид из которого был более чем странным: над каналами алели паруса полупрозрачной каравеллы, пытающейся пришвартоваться к Рыночной площади, рядом с башней Белфорт; на фоне сиреневого горизонта пылал дом Ганса Мемлинга, переживший триста лет запустения и забвения, но не переживший германской бомбардировки.
Свинцовое небо над городом, отраженное в холодных водах Баудевейнканала, хранило тревожное молчание.
Я снял портрет с каминной полки и, удалив с него верхнюю крышку с изображением обнаженной женщины, словно бы сошедшей с забытой ныне картины «Кабинет искусств Корнелиуса ван дер Геста», повесил его на стену вместо зеркала, которое уже давно ничего не отражало, кроме редких минут тишины и безымянных снов, которые мне пришлось прожить без тебя.
Ты отбрасываешь со лба свои огненно-рыжие, как у Марии Бургундской, локоны и маленькие розовые бабочки, словно опадающий цвет сакуры, заполняют собой пространство гостиной.
Трещат поленья в камине и пахнет сосновой смолой.
Ты делаешь большой глоток вина и говоришь мне о том, что я буду помнить шорох твоего имени дольше, чем длится удивление мотылька, попавшего в пламя свечи.
Если посмотреть на лицо этой женщины с портрета Ван Эйка, то время и годы скитаний не сильно изменили твои черты и это несмотря на то, что я до сих пор не знаю точно, ты только что вошла в эту комнату или уже прощаешься со мной?
Даже взгляд твоих глаз не дает мне ответа на этот вопрос, словно кто-то глядит из них так, точно из незнакомых окон давно заброшенного дома. Зеленый пелисон, подбитый горностаем, обвивает твое прекрасное и всегда желанное тело словно ползучий вьюн.
Я хотел бы упасть в эту зелень и раствориться в ней подобно аромату розы – в теплом вечернем воздухе лета. Рано или поздно здесь все зарастет травой, стремящейся к звездам и ночному бархату бессмертных небес, равнодушно глядящих на нас из вечной космической пустоты.
Когда Джеймс Хей, полковник-лейтенант 16-го полка легких драгун, участник знаменитой битвы при Витории, представил в 1816 году самому Георгу IV полотно Ван Эйка, никто во всей Британской империи даже не представлял себе, где находится этот пресловутый Брюгге.
Сегодня нам с тобой не представляет труда с легкостью до дюйма определить его местонахождение на карте исчезнувших в небытие городов: горящие от немецких бомб дома и пылающая башня Белфор навсегда изменят географические карты несостоявшегося для нас будущего.
Твоим именем я назвал эту женщину на картине. Облаченная в зелень, она стала для меня праобразом потерянного навсегда Эдема, фантастического райского сада, рожденного силой эротических фантазий Евы или Лилит.
Она носила под своим сердцем больше, чем человеческое дитя: она вынашивала целую вселенную, которая впоследствии раскроется в пурпуре славы и величия трепетным лепестком на бутоне невидимой дамасской розы, в том тайном саду, где я впервые вошел в пределы твоего храма, навеки завещанного тобой мне, как Земля обетованная.
Мог ли я мечтать о чем-то большем?
Когда Ван Эйк закончил свою трапезу и чета Арнольфини могла наконец-то насладиться копченым угрем и глотком бесподобного поммара, ты проводила художника в наши покои и он, усевшись в большое удобное кресло, стоящее прямо перед пылающим камином, мог предаться своим мечтам и разговорам о философии и согреться чашечкой подогретого на пару сакэ.
В тот вечер мы много говорили, в основном, о греках. Тебя занимал Гераклит, Ван Эйка – один из Диогенов, кто именно, было непонятно, я же просто знакомился с манускриптом «Summa theologica» Фомы Аквинского, с энтузиазмом растапливая им камин, который явно был от этого в восторге.
Когда-то я знал двух Диогенов: Диогена Сицилийского и Диогена из Синопа. Один был шутом и проказником, другой – ученым мужем и серьезным философом, хранящим ответы на все случаи жизни.
Но так уж вышло, что юмор более живуч нежели земные науки, поэтому одним Диогеном на свете стало меньше, а вместе с тем, и сомнительной премудрости, которая занимала явно не свои парфеноны и пестумы.
От греков мы перешли к картам таро и твои тонкие пальцы, задорно пробежавшись по всей длине, шелестящей символами, колоды, вытащили «Башню», «Шута» и «Любовников».
На первой карте мы узнали охваченную пламенем башню Белфор, звенящую в окрест своими отчаявшимися колоколами и разрушающуюся на наших глазах от прямых попаданий германских снарядов.
Ван Эйк стремительно присвоил себе «Шута», воспользовавшись внешним сходством с изображением на карте. Ему многое сходило с рук, и дело даже было ни в близости его к самому бургундскому герцогу Филиппу и ко всему двору, сколько в великолепном искусстве мастерского перевоплощения и камуфляжа, знакомого ему еще с детства.
Допив сакэ и подбросив поленьев в камин, он, обув деревянные башмаки, растворился в пелене прорвавшегося с небес майского ливня.
Мы оказались с тобой вдвоем на перекрестке, карта «Любовники» указывала нам направление и примерную хронологию наших совместных деяний в будущем, единственное, что представляло определенную трудность для подобного рандеву – это неподкупная прочность лакированного временем льняного холста, безжалостно разделяющего нас с тобой на пятьсот восемьдесят три года».
Под сенью девушек в цвету
Был ли этот город на семи живописных холмах в действительности или он лишь приснился ему?
И эти узкие улочки, и таинственные переулки, ведущие если не в прошлое, то очевидно, к чему-то чудесному и неожиданному.
И эти петушки, и золотые флюгеры на острых шпилях церквей и храмов; красный булыжник старой рыночной площади и аромат цветущей глицинии во дворе бывшего иезуитского аббатства.
И горячий пар артезианских источников, поднимающийся у подножья Флорентийской горы.
И все эти медленно бредущие по тропинкам и аллеям усталые тени, толи наших современников, толи тени давно умерших и безнадёжно застрявших в этих живописных ландшафтах, столь похожих на обетованный парадиз.
Если чудесный рай утерян для нас безвозвратно, то зачем нам даны знаки его?
Все эти путеводные образы и лики, увлекающие нас на поиски того, что безвозвратно кануло в ничто.
Малые и большие дороги, горные тропинки и широкие аллеи.
Ароматы розы и жасмина, тихий шум струящихся вод и голоса птиц. Бисер дождевых капель и волшебный перелив радуги. Звенящая тишина и сон во сне.
Что должно быть утрачено навсегда, что должно быть приобретённым навеки?
И снова, и в который раз, словно бесконечный ветер шумит рефреном в голове …камень, лист, ненайденная дверь; о камне, о листе, о двери. И о всех забытых лицах. Обо всех усталых в чужом краю, обо всех кораблях, ушедших в море, обо всех, забывших радость свою.
Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица; из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.
Я буду мечтать о кладбище, где лежит, отдыхая,
Столько ушедших, далёких, забытых,
От которых лишь осталась трава густая
Да имена на стёртых замшенных плитах.
Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?
О тщета утраты в пылающих лабиринтах, затерянный среди горящих звезд на этом истомленном негорящем угольке, затерянный! Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утраченную тропу на небеса, камень, лист, ненайденную дверь. Где? Когда?
О утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись!
И снова, о камне, о листе, о не найденной двери… взгляни на дом свой, ангел!
Аллея была безлюдна, безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий носился над водою.
Куда-то, в сторону спящего Рейна, горная речка со странным названием Орсо несла свои хрустальные воды, минуя опустевшие виллы, парки и розовые сады, отцветшие и одинокие.
И сказал он Богу, да будет свет. И стал свет. Серо-голубым, как цвет неба у Вермеера, лазурным, как оттенок ангельских плащей у Джотто.
В старом кафе, у английского теннисного корта он выпил бокал ароматного рейнского рислинга и увидел, что свет хорош и тут же отделил свет от тьмы.
И был вечер, и было утро: день последний, он же – день Творения и Страшного суда, ибо любой Суд мы творим в себе лишь сами, как Ад творим сами и Рай.
Картины, множество картин, миллионы живописных полотен составляли его мир, и до и после, хотя больше после, чем до, так как единственное, что представляло собой невидимую ценность и оставляло его наедине с собой, с тем, каким он себя помнил и знал, была память, его собственная память, которая как древнее дно мирового океана хранила в своём бескрайнем чреве воспоминания о всех временах и всех живых существах, когда-либо живших и о всех, которым ещё предстоит жить в будущем.
Картины, тысячи полотен, миллионы кракелюр, миллиарды минеральных пигментов: всё хранилось в тайниках его сознания, словно легионы книг – в анфиладах пражской Клементиниум или тайном логове старика Борхеса, великого слепца и алхимика.
Ему казалось, а может, это было и в самом деле, что вся его жизнь, начиная с момента рождения и, заканчивая фактом пребывания в этом странном городе, где желаемое мгновенно становится реальностью, есть лишь фантазия в чистом виде, осознанное и управляемое его волей сновидение, которое и есть истинное незамутненное случайной мыслью бытие.
Достаточно было ему, к примеру, прогуливаясь по безлюдной анфиладе старого питьевого павильона в Бадене, прислониться спиной к холодной плоскости мраморной дорической колонне или прикоснуться к каменной арабеске ажурного окна в готическом квартале Барселоны, как тут же, в его воспалённом сознании рождались образы, череда образов, тысячи нейронных связей с чем-то незнакомым, но до боли родным и хранящемся где-то в глубине его непреходящего и истинного «я».
Вот и сейчас, стоило ему лишь прикоснуться к старой медной ручке входной двери его любимого ресторана Baldwrite, как в тот же миг словно свежим морским бризом его обдало и закружило в пестром танце образов, казалось бы, никогда ему незнакомых, но в то же время, родных до боли в груди.
Он видел это и ранее, но кому именно принадлежали эти воспоминания, пахнущие свежей масляной краской и лаком, невозможно было определить: толи его прихотливой и избирательной до приступов тошноты памяти, толи тому высокому и статному брюнету с напомаженными кончиками воронёных усов, закрученных вверх подобно серпам молодого арабского полумесяца.
Он назвал это воспоминание:
Las
Meninas
и тишина
«Согласен, у меня были свои причуды: я творил вселенные в тот самый час, когда изысканные, цвета спелой сливы, вечерние тени удлинялись в сторону молчаливого заката, а в солнечных лучах медового света кружилась мельчайшая россыпь золотой пыли. Ты часто повторяла, что гениальность и безумие суть одно и тоже, и если бы не мои знаменитые усы, подобные серпу молодого месяца цвета вороного крыла, то я бы уже давно грел своим худосочным телом соломенный тюфяк в одном из доминиканских богаделен Севильи. Я не спорил. Твой голос был для меня привычен, как полуденная тень в углу моей мастерской, как крик встревоженных сорок над кафедральным собором или вой ночного ветра в ставнях королевского дворца. Мне была важна лишь тишина. Тишина и… Её Королевское Величество Инфанта. Ее детская непосредственность и властный взгляд голубых глаз, проникающий до самых глубин моего сердца. Прежде, чем я решил посвятить свою жизнь живописи и стал вслепую отличать сиену жженую от охры и умбры, я долгие годы промышлял учителем фехтования, ловко управляясь своей рапирой и даже во сне отличая агрессивный батман от стремительного ремиза, но, впрочем, хватит об этом, эта часть моей жизни прекрасно описана кабальеро Пересом-Реверте, человеком храброго сердца и тонкого ума. Allez! Шум улицы сливался с утренними грезами. Я сделал неторопливый глоток золотистого хереса и обмакнул свою кисть в алый краплак. Где-то в анфиладах пустынного дворца скулила собака и тихо, почти неслышно, звучала флейта, завлекая в свои мелодичные сети доверчивых птах с той стороны оконного стекла. Фрейлина учила малолетнюю Инфанту первым нотам в искусстве власти и придворных интриг. Я стал задумчиво, по крохотным фрагментам, создавать образ причудливых менин, наряжая их фантомные фигуры в оттенки королевских покоев: здесь оливковый темный мог соседствовать с терракотом, глубоким кобальтом и, даже, с атласной лазурью. Я знал все эти премудрые арабески дворцового этикета: в своих снах я повторял эти отработанные и слаженные движения неоднократно, и у меня никогда не дрожала рука, и ни одна капля драгоценной краски не упала на черный мраморный пол моей мастерской. Меня только смущало зеркало, старое большое зеркало с муаром, создающим причудливый контур Кастильского королевства, в котором время от времени возникали полупрозрачные лики Его Величества Филиппа IV и Его венценосной супруги, королевы Марианны. Не буду лукавить, меня зачастую пугали эти призрачные лики, возникающие время от времени в глубине старинного зеркала, пусть даже они были королевских кровей. Я проваливался словно в минутный обморок и из глубокого оцепенения меня вызволяли лишь доносившиеся с кухни незабываемые ароматы готовящихся яств: печеная баранина с розмарином и нежными сердцевинами артишока, наваристый фабаде, сарсуэла и ароматный чесночный соус софрито. Что говорить, королевский двор умел себя побаловать изысканными блюдами и винами, которых не знали даже куртуазные Бурбоны. Голоса из зеркала звали Маргариту. Я обмакнул кисть в золото и записал это имя на реверсе холста, натянутого на подрамник. Последний луч заходящего солнца со вкусом спелого хереса олоросо лег на белокурую прядь Инфанты, и Маргарита широко открыла глаза, удивившись причудливой игре света и оливковых теней, примостившихся в складках платья немецкой карлицы и в шерсти дремлющего у ног придворного пса. Возможно, что ты была права, когда говорила мне о том, что не стоит доверять старинным зеркалам, и загадок в их амальгамном чреве гораздо больше, чем ответов. Тем не менее, я посчитал бы себя весьма неблагодарным и легкомысленным негодяем, если бы не отплатил добром своему духовному единоверцу Ван Эйку, столь искусно и задумчиво запечатлевшего смиренную чету Арнольфини в их семейном особняке в Брюгге. Этот безмолвный диалог эпох, отразившийся в зеркальном муаре, волновал меня не столько своей парадоксальностью, сколько безграничным желанием зафиксировать себя и свой образ в анналах ускользающей в небытие вечности. Может быть тебе это покажется детской наивностью или наивным желанием покрасоваться перед сонмом насекомых, жужжащих в моем саду, который залила своим светом одинокая в тихой радости луна. Пусть так, ведь это ничего не меняет, и я, глядя в высокие кроны кипарисов, где прячутся суетливые дрозды, с легкой улыбкой на устах, спустя вечность или всего лишь мгновение, с упоительным наслаждением повторяю это имя, с которым теперь меня уже ничего не связывает – Веласкес».

