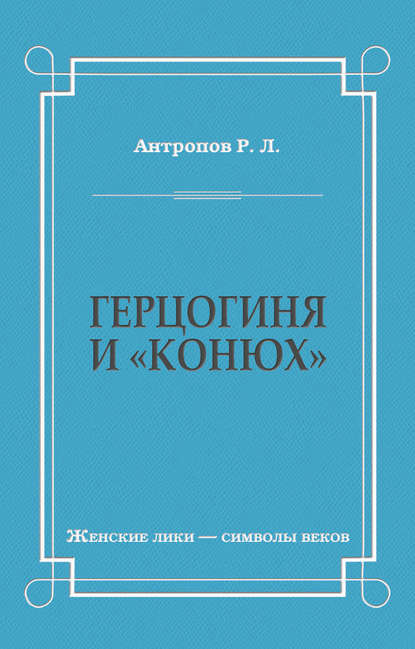 Полная версия
Полная версияГерцогиня и «конюх»
– Находитесь ли вы, ваше высочество, в добром здравии? – произнес Дмитрий Голицын. – Едучи сюда, мы все время молили Господа Бога об этом.
– Спасибо, князь Дмитрий, я здорова. А ежели бы и была больна, какая кому от того печаль могла приключиться?
– Упаси Боже! Ваша жизнь, ваше высочество, драгоценна для России!.. – торжественно сказал Долгорукий.
– Моя жизнь драгоценна для России? – усмехнулась Анна Иоанновна. – Это давно ли? С каких пор? И что такое я, забытая племянница великого государя, сосланная сюда, в чухонскую Митаву?
– Ваше высочество! – выступил князь Дмитрий Голицын. – То, что вы изволили произнести, есть сущая правда. Негоже было так бессердечно поступать с племянницей великого императора. Ведомо нам все, что претерпели вы в эти семнадцать лет заточения в Митаве. Но наша ль в том вина? Разве мы являлись распорядителями судеб империи? Что мы могли поделать, когда и видели неправду? Не корите же нас за это, ваше высочество!
– Справедливо сказал брат, – промолвил другой Голицын.
– Верно!.. – вздохнул князь Долгорукий.
– А теперь мы обязаны сообщить вам: император Петр Второй Алексеевич скончался. Ведомо вам сие?
– Ведомо.
– А ведомо ли вам, что у нас нет пока нового императора?
– И это ведомо, – твердо произнесла Анна Иоанновна.
– Мы, ваше высочество, явились к вам по поручению членов Верховного тайного совета, – начал опять Дмитрий Голицын. – После кончины его величества возник вопрос: кому следует наследовать корону российскую. И вот тогда я первый подал свой голос за вас. Правду я говорю? – обернулся Голицын к брату и Долгорукому.
– Правда… Твое это дело, князь Дмитрий, – ответили оба.
– Вы видите, ваше высочество, что я ни на минуту не забывал о той, которая томится в Митаве, – о племяннице великого государя.
– Спасибо! – вырвалось у герцогини.
Князь Голицын продолжал:
– Одному Богу известно, сколько трудно мне и тем, которые разделяли мои взгляды, отстаивать царский престол для вас. Но я это сделал. Если вам угодно, вы с сегодняшнего дня – императрица всероссийская. Мы привезли вам корону.
– Мне?! – воскликнула Анна Иоанновна. Она хотела что-то сказать еще, но не могла уже: сильное напряжение нервов разрешилось истерикой. – А-а-а-а-ах!.. А-а-ах!.. – забилась она на троне.
Произошла паника. Все бросились помогать будущей императрице.
Фрейлина Менгден совсем растерялась.
Но вдруг случилось чудо: сразу, моментально, Анна Иоанновна выпрямилась во весь рост и с совершенно спокойной улыбкой обратилась к послам:
– Это так… пустяки… худо со мной сделалось… Так вы корону мне привезли?
– Да, ваше высочество, – низко склонился Голицын. – Один росчерк пера – и вы – императрица.
– А что же я должна подписать? – как-то особенно экзальтированно спросила герцогиня.
– Вот эту бумагу! Угодно вашему высочеству выслушать содержание ее? Мы предупреждаем вас, ваше высочество, что это – воля народа.
Анна Иоанновна молча согласилась на прочтение и, когда чтение ограничительной грамоты окончилось, тотчас же подписала ее.
XIII
В Москве. «Остерман работает»
Тепло, торжественно, со звоном колоколов всех сорока сороков, встретила Первопрестольная Анну Иоанновну.
Хотя народу избрание ее на царство и казалось каким-то диковинным, чудным, непонятным – кто знал о ней, захудалой герцогине Курляндской? – тем не менее народ радовался, что появилась царская власть, а не власть одних «верховников».
Долгорукие поселились около покоев Анны Иоанновны и никого не пускали к ней без себя.
Для бывшей герцогини Курляндской получилось заточение еще более тягостное, чем митавское.
Бирон отправился к Остерману. Великий дипломат заканчивал беседу, по-видимому, весьма важную, с князем Черкасским, который бывал у него почти ежедневно. Этот князь Черкасский, представитель «шляхетства»-дворянства, страшный богач, но человек в высокой степени ограниченный, сыграл известного рода роль в уничтожении замыслов «верховников» об ограничении царской власти.
– Подождите, Эрнст Иванович, я сейчас к вашим услугам, – бросил Остерман Бирону. – Итак, князь, вы не струсите?
– Что вы! Что вы! Конечно, нет…
– Приезжайте ко мне вечерком. Надо будет о многом еще договориться, – окончил беседу Остерман.
Черкасский уехал, едва взглянув на Бирона и надменно кивнув ему головой. Впоследствии этот надменный кивок дорого обошелся князю.
– Я сейчас хочу проехать к Анне Иоанновне, Бирон, – начал Остерман.
– Я не видел ее вот уже несколько дней, – угрюмо произнес Бирон.
– Вы же не уверите меня, дорогой Эрнст Иванович, что это чересчур огорчает ваше сердце? – тихо рассмеялся Остерман. – А просто вас разбирает бешенство, что около нее теперь находитесь не вы, а эти пьяные звери. Верно?
– Да! – резко ответил Бирон.
– Ничего не поделаешь, Бирон, надо потерпеть. Пусть все думают, что фаворит герцогини, когда она сделалась императрицей, получил чистую отставку.
Бирон хрипло рассмеялся.
– Нам надо вести нашу игру очень тонко! – произнес Остерман. – Если мы хотим опираться на дворянство и на войско, чтобы уничтожить ограничительную грамоту, да и весь этот Верховный тайный совет, то необходимо, чтобы ни дворянство, ни войско, ни духовенство не боялись особенно нас, немцев. А то они будут так рассуждать: «Освободим мы государыню от властных князей-вельмож, ан, глядишь, в лапы к немцам попадем! А лучше ли от того будет? те все же – наши русские, свои, а эти немцы – басурмане!» Понимаете, Бирон?
«Конюх» молча кивнул головой.
– Вы в особенности должны стушеваться, – продолжал Остерман. – О той роли, которую вы играли при царевне-герцогине Анне Иоанновне, знают очень многие.
* * *Всякий раз, когда Остерман появлялся во дворце, лица князей Долгоруких вытягивались. Они ненавидели его, но и страшно боялись – боялись его поразительно острого ума, изворотливости, ловкости…
– Как чувствует себя ее величество? – осведомился Остерман у Алексея Долгорукого.
– Опочивает, кажется, – ответил тот.
– Ну, ничего, я разбужу ее! – улыбнулся Остерман.
Долгорукий не выдержал и спросил:
– Скажите, наш великий оракул,[27] о чем это вы столь продолжительно беседуете с императрицей?
– А вас почему это так интересует, ваше сиятельство? – насмешливо улыбнулся Остерман.
Долгорукий смешался, но тотчас ответил:
– Нет, я просто так полюбопытствовал.
– Вступая на престол, Анна Иоанновна желает поучиться кое-какой государственно-политической мудрости, – продолжал Остерман. – Зная меня, как опытного в сих делах дипломата, она и выразила требование, дабы я обучал ее…
– Гм… – ухмыльнулся в бороду Долгорукий. – Особенно чего же ей стараться? Делами государственными не одна она, чай, будет ведать.
Остерман шепнул на ухо Долгорукому:
– Да она и совсем не будет ведать ни о чем, князь Алексей. Разве мы не связали ее по рукам и по ногам?
Лицо Долгорукого просветлело.
– Значит, вы в нашей партии? – воскликнул он.
– А то в чьей же? Разве я – не член Верховного тайного совета? Или вы исключили меня оттуда?…
Тут Долгорукий крепко пожал руку великого дипломата и произнес:
– В таком случае надо действовать заодно. Ведомо ли вам, великий оракул, что по Москве ходят по рукам подметные письма?
– Ведомо!.. – спокойно ответил Остерман.
– А что писано там, знаете?
Остерман вместо ответа вынул листок бумаги и, протянув его Долгорукому, спросил:
– Одно из этих, князь Алексей?
Долгорукий совсем обомлел. Он несколько секунд молчал, а потом тревожно воскликнул:
– И вы, Остерман, столь спокойно относитесь ко всему этому?
– Я никогда не волнуюсь и не теряю головы. Опасность велика, я знаю это. Но ведь мы настороже, князь?
– А если нас осилят? Если мы проморгаем? – заволновался Долгорукий. – Вот, например, знаете ли вы, кто является первыми смутьянами? Знаете ли вы, кто волнует народ, войско и дворянство?
– Знаю. И не только знаю понаслышке, но каждый день вижусь и разговариваю с ними, – проговорил Остерман.
– Кто же они, если вы их знаете? – забыв всякую осторожность, закричал Долгорукий.
– Волынский и князь Черкасский, – отчеканил Остерман.
– Так ведь их надо схватить, арестовать… сослать… четвертовать!.. Чего же вы медлите?…
Ироническая улыбка пробежала по губам Остермана.
– Вы ошибаетесь, князь Алексей!.. – промолвил он. – Каждый раз, как они являются ко мне, я получаю от них драгоценные сведения. Ведь они считают меня своим сторонником и потому вполне откровенны со мной. А мне, всем нам необходимо быть в курсе их замыслов, знать настроение и большинства дворянства и войска. Поэтому вы не волнуйтесь: я не пропущу нужного момента. Я вам скажу больше: я арестую даже Бирона… А знаете, почему и для чего?
Долгорукий насторожился.
– Для того, чтобы его место на время занял князь Иван Долгорукий… – еле слышным шепотом произнес Остерман. – Анна Иоанновна – женщина, и притом с пылким темпераментом. Вы понимаете?… Раз князь Иван сблизится с ней – она очутится в ваших руках. А вы… вы не забудете моей услуги, Долгорукий?…
– О! – вырвалось у того. – Все поделим!
– Я знал, что вы, как умнейший человек, поймете меня. Ну, теперь я иду к государыне. Смотрите, чтобы никто не помешал нашему свиданию. Предупредите князя Ивана, растолкуйте ему…
– Все исполню, все… – довольным голосом пробормотал Долгорукий.
XIV
«Уроки» Остермана
– Ваше величество, где вы? – тихо спросил Остерман, входя в красную гостиную.
Он поводил глазами, но нигде не видел фигуры заточенной императрицы.
Портьера распахнулась, и из спальни вся в слезах, угрюмая, понурая, вышла Анна Иоанновна.
– Что же это такое? – не здороваясь накинулась она на своего «тайного руководителя». – В ловушку меня заманили? Да? В капкан засадили?…
По-видимому, Остерман был готов к подобному приему, потому что ни один мускул не дрогнул на его лице, и он тихо, но спокойно продолжал:
– Через три дня все будет окончено, ваше величество! Но, ради бога, говорите тише, иначе все, все пропадет, все разрушится! – Он склонился перед царственной затворницей и, горячо поцеловав ее руку, прошептал: – Разве вы перестали верить вашему верноподданному слуге Остерману? О ваше величество, вы обижаете меня!.. Я знаю, ваше величество, как тяжело вам и в каком унизительном положении находитесь вы. Но вы терпели много; потерпите же еще всего три дня.
– Ах! – истеричным воплем вырвалось из груди Анны Иоанновны. – Терпеть и терпеть! Это – все, что я получаю от жизни. Ну, вот, я стала царицей…
– Вы еще не коронованы, ваше величество, – поправил ее Остерман.
– И что же? Меня опять держат в плену, в заточении. Эти проклятые князья Долгорукие стерегут меня, словно собаку в будке. Но я не хочу этого, не хочу! Я убегу отсюда, я закричу на улицах народу: «Спасайте свою царицу из рук тюремщиков и палачей!»
Остерман бесцеремонно взял императрицу за обе руки, усадил ее в кресло и стал посвящать ее во все тонкости своего хитроумного плана.
– Понимаете, ваше величество?
– Да, да, – мало-помалу оживлялась Анна Иоанновна.
– Вы видите, что сделаться самодержавной императрицей, не имея на то прямого права, не так-то легко, – продолжал свое утешение хитроумный Остерман. – Поэтому потерпите еще всего день, два, три. Ваш план обратиться к народу великолепен; это самое придумал и я, а поэтому подпишите вот эти воззвания.
Остерман развернул перед Анной Иоанновной целую кипу листов.
– А что это такое? – испугалась та. – Боже мой, я уже подписала ограничение себе!.. А это, быть может, уже совсем отречение от престола или даже смертный приговор мне?
Тогда Остерман взял один из листов и шепотом начал читать несчастной «царице»:
«Воззвание к моим верным солдатам. Братцы! Вашу императрицу наглые члены Верховного тайного совета насильно заставили подписать ограничительную грамоту, коей я, императрица Анна Иоанновна, лишаюсь права управлять царством. Все права хотят захватить в свои руки Голицыны, Долгорукие и прочие иные господа «верховники». Позор, поношение, обида царскому роду, коему вы, солдаты, служили всегда верой и правдой. Меня во дворце заключили, как в темницу: каждый шаг мой стерегут. Верные мои солдаты, верная и любезная моя армия! Идите и ослобоните меня! Присягайте только мне, как самодержице, но не присягайте Верховному совету. Жду от всех вас, братцы, помоги, изволения от своих дерзновенных тиранов».
– Так! Так! Так! – захлопала руками Анна Иоанновна. – О, эти проклятые князишки! Я им покажу, как оскорблять царскую кровь!
– Подписывайте скорее, ваше величество! Каждая секунда дорога! – торопил ее Остерман, боявшийся внезапного появления которого-нибудь из Долгоруких.
Анна Иоанновна подписала все воззвания.
– А теперь помните, что вы, ваше величество, должны быть особенно ласковы с Долгорукими, особливо с князем Иваном. Они не должны держать в подозрении ни вас, ни меня, – продолжал поучать императрицу Остерман, после чего встал, чутко прислушался и преувеличенно громко произнес: – До свидания, ваше величество!
В дверях стоял Алексей Долгорукий.
– Итак, вы усвоили себе, что такое ограниченный монарх? – почтительно спросил Анну Иоанновну Остерман.
– Да, – растерянно ответила императрица.
– Уверяю вас, ваше величество, что это – самый лучший, удобный и выгодный образ правления, – продолжал великий дипломат. – Вы – императрица, но не можете же вы одна управлять такой махиной, как Российская империя? Я правду говорю, князь Алексей? – обернулся Остерман к Долгорукому.
– Это – святая правда, ваше величество, – поклонился тот государыне.
– Завтра или послезавтра я буду иметь высокое счастье снова явиться к вам, ваше величество, на урок. Вы дозволите? – сказал Остерман.
– Я буду ждать вас с нетерпением, господин Остерман! – улыбнулась Анна Иоанновна, протягивая ему руку.
«Великий оракул» прижался долгим поцелуем к «державной» руке и быстро вышел из покоев императрицы.
– Ну, что, как она? – перехватил его на дороге Иван Долгорукий.
– Чудесно! Все идет, как нельзя лучше!.. А вот вы поразвлекли бы ее!.. – улыбнулся Остерман. – Скучает ее величество…
– Можно! – осклабился отвратительно-цинично князь Иван.
По уходе Остермана князь Алексей Долгорукий обратился к Анне Иоанновне:
– Вот, ваше величество, человек! Ума – палата!
– Да, – усмехнулась императрица, – малость поумнее нас с тобой будет. А ты вот лучше скажи, что это за скучища у нас тут в Москве? – В ее голосе задрожала злоба к этому главному тюремщику. – У меня в Митаве и то было веселее… – продолжала она. – Хоть поговоришь с кем-нибудь, а тут сиди одна, как заключенная.
– Что делать, ваше величество, надо обождать малость. Вот через два дня состоится официальное провозглашение вас императрицей, тогда дело иное будет, – ответил Долгорукий. – Вы, ваше величество, игру на гуслях любите?
– А что? – оживилась Анна Иоанновна. – Я часто слыхала игру на гуслях, еще до замужества моего, когда девицей была и у матушки жила. А ты почему про это спросил, князь?
– К тому, ваше величество, что Иван мой – большой по этой части затейник. Играет он страх хорошо, да и поет, что соловей залетный. Если угодно вам, может, он позабавит вас. Но только надо это аккуратно сделать, чтобы никто не видел, не слышал, а то пойдет слух, что вот, дескать, государь император только что помер, а та, которая царицей нашей будет, в веселие ударяется. Сами изволите знать Москву: город смирный, богобоязненный, не то что Петербург, где машкерные и иные бесовские действа и лицезрения творятся, – проговорил Алексей Долгорукий.
Анна Иоанновна смутилась. Она уже видела Ивана Долгорукого, этого разудалого, лихого молодца, с его грубо-красивым, наглым лицом, молодца, который «не щадит ни бабьей, ни девичьей чести».
– А будет ли взаправду хорошо это? Не выйдет ли зазорно? – дрогнувшим голосом спросила она.
– Что ж, ничего!.. Только осторожно, говорю, поступить надо. Ужо вечерком, как поулягутся все во дворце, Иван и придет с гуслями. Присылать, стало быть?
«Ох, искушение!» – растерянно подумала Анна Иоанновна, но вдруг решилась.
– Что ж, пусть приходит… Очень уж скушно!.. – отрывисто сказала она и почему-то отвернулась от Алексея Долгорукого.
XV
Молодой гусляр и царица
В течение всего конца дня и начала вечера «скушливой» тридцатисемилетней Анне Иоанновне было что-то не по себе. Какое-то безотчетное, неясно-смутное волнение охватило все ее существо. Она не находила себе места, но больше ходила, чем сидела, и ни разу не «повалялась» на софе.
То чувство, которое овладело ею, было знакомо ей. С такой силой, как сегодня, она испытала его всего несколько раз в жизни: в последний раз – при встрече с рыцарски-великолепным Морицем Саксонским. То же ноюще-сладкое томление в груди, то же замирание сердца, та же истома во всем пышном, грузном теле.
«Ох, дурость во мне бабья поднимается» – так определяла она сама подобное состояние.
Как у всех крупных, дородных, праздно-ленивых женщин того времени, украдкой изрядно попивавших и целыми днями валявшихся на пышных перинах, у Анны Иоанновны наблюдалась излишняя повышенность чувственности. Томясь, волнуясь, поджидая красавца Ивана Долгорукого, она старалась думать о своем верном друге Эрнесте, но – странное дело! – образ Бирона совсем не появлялся. А думать она хотела о последнем для того, чтобы отогнать от себя «искушение».
И, словно подсмеиваясь, издеваясь над ней, какой-то таинственно-чудный голос нашептывал ей:
«Ты ведь молода еще. Эка невидаль – тридцать семь лет!.. Старше тебя многие, а грешат мыслями… Что твой Бирон? Немец, конюх, лошадник… И как тебе, бедной, жить-то до сих пор приходилось? Маета одна… А он, взять бы хоть ту же Екатерину Долгорукую, вон как тут веселились, какие попойки да забавы устраивали».
А другой голос тоже шептал:
«Ты не забудь, кто – ты… Ты ведь послезавтра – императрица всероссийская… Разве можешь ты забываться, хотя бы по-женски?»
Тихо, бесшумно отворилась дверь покоев Анны Иоанновны, и послышался звучный, красивый, молодой голос:
– Дозволишь ли войти, пресветлая царица?
Вздрогнула Анна Иоанновна, вскочила с кресла и приложила правую руку к сильно заколотившемуся сердцу. Взглянула она – и ахнула.
«Экий красавец! Экий молодец!» – так и ожгло ее всю.
Перед ней стоял князь Иван Долгорукий в костюме гусляра. На нем были высокие сафьяновые сапоги, шаровары темно-алого бархата, голубая шелковая рубаха-косоворотка. Грудь – что наковальня кузнечная: бей молотом – не дрогнет. А эти сильные руки? А эти плечи в косую сажень? А эти кудри? А главное – глаза: жгут они, нутро все поворачивают.
– Ах, это – ты, князь Иван? – вспыхнула Анна Иоанновна.
Улыбнулся хищной улыбкой Долгорукий-младший, обнажил белые, словно кипень, зубы и пылко произнес:
– Какой я, пресветлая царица, князь? Разве не видишь, что простой я гусляр. Князь Долгорукий там, позади дворца, остался, а видишь ты здесь только гусляра-сказочника Ивана.
Анну Иоанновну словно волна какая-то подхватила. Простая русская женщина властно проснулась в полуонемеченной, бывшей герцогине Курляндской, а ныне – полуимператрице.
– А коли ты – не князь, так какая же я царица? – вырвалось у нее, и она помимо своей воли оглядела затуманенным взором статную фигуру «Баяна».
– Царица – всегда царица, а мы-то вот – иное дело: людишки мы подневольные, слабые, маленькие, – продолжал ломать роль гусляра князь Иван, держа в правой руке гусли.
– Что же ты стоишь, князь Иван?… Садись!.. – указала Анна Иоанновна на место на софе рядом с собой.
Лихо, ухарски тряхнул кудрями тот и послушно сел близ царицы.
А она промолвила:
– Сказывали мне, что играешь ты хорошо на гуслях, князь Иван… Вот и захотелось мне игру твою послушать…
– Ничего, иные одобряют!.. – сверкнул большими зубами князь Иван.
– Поди, сколько сердец девичьих иссушил?… – все более и более начинала впадать в его тон Анна Иоанновна.
Иван Долгорукий тихо рассмеялся:
– Не считал! Про меня мало ль чего не говорят… Всю Москву, вишь, женскую да девичью попортил я.
– А неправда, что ли? Отпираться будешь? – волнуясь все сильнее и сильнее, спросила Анна Иоанновна.
– Буду, пресветлая царица. Какой я озорник? Я – монах, что ни на есть схимник самый строгий. Много ль мне надо? Чару-другую зелена вина, а на закуску – уста румяные, сахарные, грудь белую, лебяжью… Эх! Найди такого еще скромника, царица!
И вдруг он сразу, быстро впился в Анну Иоанновну своим пылким, воровским, удалым взором.
Ту всю словно варом обдало.
– Вот ты какой!.. – вырвалось у нее.
– Не осуди, царица!.. Каков есть. А только одно знаю: в одном крепок я: хоть на дыбе пытай меня, – не стану победами своими бахвалиться, тайны ночек хмелевых раскрывать.
Князь Иван, положив гусли на колени, провел руками по струнам. Тихие, вздрагивающие звуки вдруг зазвенели и пронеслись как-то робко-несмело по покоям государыни.
– О чем сказку сказать тебе, пресветлая государыня? – ближе придвинулся к Анне Иоанновне Иван.
– Пой… про что хочешь… – не отодвинувшись, произнесла она.
– Жалостливое что аль веселое? – спросил князь Иван, а сам глазами так и впился, словно вот душу хочет съесть.
– Что ж с веселого начинать?… Веселое напоследок!.. – перехваченным голосом прошептала Анна Иоанновна.
– Хорошо! А есть обычай такой, царица, что перед сказыванием подносят гусляру чару меда стоялого аль вина какого заморского. Обычай этот не нами заведен, от дедов наших ведется. Не рушь же его, царица!.. – все тем же в душу льющимся голосом произнес Иван.
«Царица», словно завороженная, быстро встала и вскоре принесла два кубка с каким-то вином; один из них она подала князю Долгорукому, другой поднесла к своим губам.
– Ну, пей, раскрасавец-гусляр, молодец удалой, и я с тобой вина пригублю, – сказала она.
Глаза Анны Иоанновны горели лихорадочным блеском, грудь высоко подымалась.
– Спасибо на ласке, царица!.. – низко поклонился князь Иван. – А только коли пить, так пить уж до дна. А то гусляру скушно будет сказки тебе играть.
Анна Иоанновна до дна осушила большую чару крепкого вина. Огненная влага разлилась по ее жилам. Еще сильнее забурлила, заиграла кровь и к сердцу прилила, и в голову бросилась.
– Хорошо, царица? – тихо спросил Иван.
– Хорошо! – бурно вырвалось у Анны Иоанновны.
Теперь она села еще ближе к Долгорукому, так что его горячее дыхание она почувствовала на своей щеке.
Сильно, смело коснулся Иван до струн гуслей. Зарокотали те, застонали, заплакали. И начал он «сказание».
ПЕСНЬ НА ГУСЛЯХ ИВАНА ДОЛГОРУКОГООй, вы гусли-гусельки, веселые мои,Вы поведайте нам, гусли, сказочки свои!Распотешьте девицу, красна молодца,Чтоб взыграла кровь их, удалы сердца.Начинают гусли: с давних, слышь ты, порНа Руси пресветлой появился вор,Он – старик высокий, с белой бородой,Ходит он все больше, все ночной порой.Как идет – так песни удалы поет,Бородой косматою лихо так трясет.«Кто ты будешь, дедко? Как тебя зовут?» —Вопрошают люди. Сами бледны… ждут.«Я – сам бог Ярило, Хмелем звать меня,Много показать вам я могу дивья,Тайной заповедною лишь один силен,В радостях, в весельях я один волен».Подивились люди. – «Полно, дедко, врать!Неужель людей всех в плен ты можешь взять?»«Ой, могу, людишки, чары напустить,Одному мне будут люди все служить!»Выдвинулся парень. Был он лих и смелИ в глаза Яриле гордо поглядел.«Ты зовешься Хмелем? Хорошо, старик!Я побью тебя сейчас же, в этот самый миг.Ежели всесильны чары все твои,Ты развей мне горе, муки все мои.Полюбил давно, слышь, я цареву дочь,И не сплю, не ем я, – прямо мне невмочь.Ах, хочу лебедку я к груди прижатьИ уста царевны пылко целовать!Только та царевна за замком живет,Свора псов иноземных ее стережет».Отвечает Хмель тут: – «Гусли ты возьмиИ к царевне-Зорьке смело ты иди!Грянь по струнам звонким, песенку ей спой,И она ответит: „Ах, желанный мой!”»И пробрался парень, хоть и труден путь.Ну, как вдруг увидят, на дыбу возьмут?Вот уж и царевна. Вспыхнула, дрожитИ на красна-молодца сурово глядит.«Ой ты, тать ночная! Ой ты, вор лихой!..Как ты смел пожаловать в царский терем мой?»Не ответил молодец… лишь в очи поглядел,И на гуслях-гусельках он песню ей запел.«Ах, зови, царевна, палачей своих,Пусть уж снимут голову со плечушек моих!Но на пытке лютой буду умиратьИ „люблю царевну!” стану все кричать!»Что же тут царевна молвила в ответ?Оглянулась… Горенка… Никого-то нет…Перед ней молодчик статный, удалой…И шепнула только: «Ах, желанный мой!..»Окончил Иван Долгорукий… Замер последний звук… И вдруг Анна Иоанновна почувствовала, как сильная рука сжала ее в объятии.

