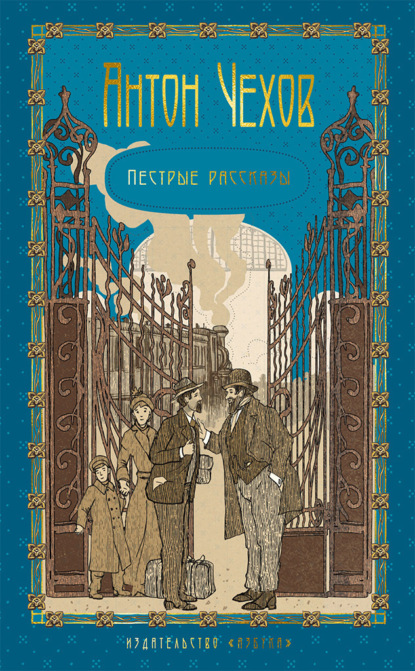
Полная версия:
Пестрые рассказы
«Из дневника помощника бухгалтера» (1883) построен по классической формуле кумулятивного сюжета, самостоятельно открытой Чехонте. На двух неполных страницах, в восьми дневниковых записях варьируются всего три темы: надежды героя на смерть бухгалтера Глоткина, место которого он мечтает занять; злорадные сплетни о секретаре Клещеве; многочисленные рецепты от катара желудка, который герой никак не может вылечить. Каждая тема многократно повторяется в дневниковых записях, и от этого «голого» повтора возникает рельефный образ вечного завистника-неудачника.
Текстов, построенных на варьировании одной и той же ситуации и завершающихся неожиданной концовкой, у Чехова 1880-х гг. множество – как юмористических («Произведение искусства», «Смерть чиновника», «Налим», «Хамелеон»), так и трагических («Тоска», «Актерская гибель»).
Техника лейтмотивной детали и повторяющейся ситуации отзовется позднее в «Учителе словесности», «Моей жизни», «Черном монахе», «Доме с мезонином», «Даме с собачкой».
Парадокс чеховской краткости может быть сформулирован таким образом: сжатость повествования возникает именно благодаря многочисленным повторам и соотнесениям разнообразных элементов текста.
Чехов постепенно начал прощаться с Чехонте и его двойниками после публикации сборника «Пестрые рассказы» (1886). «В малой прессе я не работаю уж с Нового года… Определенных планов на будущее у меня нет. Хочется писать роман, есть чудесный сюжет…» (Д. В. Григоровичу, 9 октября 1888 г.; П 3, 17).
О судьбе романа речь уже шла. В конце 1880-х гг. вместе с ним окончательно исчез и Антоша Чехонте, оставив светлую память о юности и – загадку историкам литературы.
Чехонте без Чехова: версии и варианты
Разнообразные концепции, так или иначе учитывающие чеховскую эволюцию, можно свести к двум принципиальным типам, вариантам.
Первая – сильная – версия предполагает конфликтные отношения раннего и позднего творчества писателя. Согласно этой точке зрения, восходящей еще к первым критикам-современникам, с конца 1880-х гг. Чехов избавлялся, уходил от ранних приемов, жанров, форм художественного мышления.
«Чехов – поэт с историей», – сказала бы по этому поводу Цветаева.
От Чехонте – к Чехову, от Чехова без пенсне – к Чехову в пенсне, – так выглядит этот тип эволюции, сведенный к простой, минимальной формуле.
Вторая – менее распространенная – концепция исходит из внутреннего единства чеховского творчества, прежде всего его внутренних, глубинных свойств, его художественной философии. В таком понимании Чехов не столько отрицает, сколько очищает от привходящих обстоятельств собственные художественные принципы и установки.
В этом контексте Чехов оказывается поэтом без истории. Общая формула его эволюции приобретает иной характер: Чехонте – в Чехове, Чехов – в Чехонте.
Интересно обсудить и еще одну – парадоксальную – версию. У пушкинистов существует понятие возможного сюжета, обнаруживающегося то в завершенных текстах («А может быть и то: поэта / Обыкновенный ждал удел…» – несостоявшаяся судьба Ленского), то в набросках (Ю. М. Лотман попытался реконструировать пушкинский сюжет, который в записях сводится к единственному слову «Иисус»).
У писателей и у даже историков популярна категория альтернативной истории («А что было бы, если бы декабристы победили на Сенатской площади?»).
Подобную методику можно применить не только к воображаемой судьбе персонажей и ненаписанным произведениям, не только к историческим событиям, но и к творческой судьбе писателя. Если есть альтернативная история, то возможна и альтернативная биография.
В «Даре» Владимира Набокова в театральной ложе появляется старый Пушкин, Пушкин-шестидесятник. В похожие игры с Пушкиным любит играть Андрей Битов («Фотография Пушкина. 1799–2099»).
В ХХ в. разные авторы – от Бориса Пастернака до Бориса Штерна – воображали альтернативную биографию Чехова: если бы он, как Бунин или Куприн, дожил до 1917 года, где бы оказался, что бы он делал?
Представим себе противоположный вариант: в 1887 г. молодой сочинитель предпочитает «верную жену» медицину непостоянной «любовнице» литературе (привычная чеховская шутка). Или в 1890 г., как предполагалось в одном из писем, тридцатилетний автор не возвращается из поездки на Сахалин. От него остается четыре сборника рассказов («Сказки Мельпомены», «Невинные речи», «Пестрые рассказы» и «В сумерках»), сотни журнальных публикаций, подписанных 45 псевдонимами, и всего несколько десятков текстов из «Нового времени» под настоящей фамилией. В этом случае писателя Чехова практически не было, он скрылся за многочисленными журнальными масками, затерялся в море «осколочной» беллетристики.
Что тогда можно сказать о Чехонте без Чехова? Какое место этот вполне реальный, но все же воображаемый автор займет в истории русской литературы? И найдется ли для него такое место в резко изменившемся пейзаже конца века?
Место для Чехонте, конечно же, находится, но оно будет существенно иным. Он оказывается на ином этаже литературной иерархии, не в великом треугольнике русской литературы, собственно и определяющем ее мировое значение (Толстой – Достоевский – Чехов), а скорее в кругу второй прозы, по соседству с Гаршиным, Короленко или Куприным.
Существеннее, однако, что при таком воображаемом сокращении чеховского творческого пути в его художественном мире одновременно происходит переакцентуация. На первый план выступают те черты, которые с конца 1880-х гг. существенно трансформируются, отходят в тень или вовсе исчезают у автора «Степи» и «Скучной истории».
Меньше всего этот мир изменяется персонажно и предметно-тематически: героем Чехонте является средний человек (чиновник, артист, студент, мужик, барышня или дама) в обыденном хронотопе своего мира (департамент, дача, квартира, трактир, вагон или лавка).
Но другие уровни и этажи художественного мира меняются принципиально.
Критикуя в пародиях, да и позднее, авторов вроде В. Гюго или Ж. Верна, Чехонте тем не менее объединяется с ними (а еще теснее – с Мопассаном) в интересе к необычной, парадоксальной истории.
Антоша Чехонте преимущественно – новеллист, необычайно изобретательный и разнообразный. Он пишет традиционные новеллы с одной пуантой (вроде «Начальника станции», «Из воспоминаний идеалиста», «Шила в мешке», «Пересолил»), на нескольких страничках развертывает кумулятивные сюжеты («Смерть чиновника», «Произведение искусства», «Дорогая собака»), воспроизводит схему классического детектива, одновременно пародируя ее («Шведская спичка»), обнаруживает и нарушает одну из важных аксиом этого жанра – следователь не может одновременно быть убийцей («Драма на охоте»), наконец, пародирует сюжетное мышление вообще, разрушает классическую структуру фабульного повествования.
Приглашенный музыкант с контрабасом в футляре идет в княжеское имение играть на танцах, во время купания воры крадут его одежду; ожидая ночи, в кустах он встречается с прекрасной незнакомкой, голой княжной из того же имения, одежду которой стащили те же воры; спасая невинную девушку, Смычков предлагает ей футляр («Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!») и отправляется в дальнейший путь; заметив воров, он бросается в погоню, а футляр к князю Бибулову доставляют случайно нашедшие его приятели («Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни… и – о ужас! Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову»); вернувшись после погони, Смычков не находит футляра, считает себя убийцей и навсегда остается на месте пропажи («И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, как ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса»).
Кто, кроме Д. Хармса, был способен сочинить подобную галиматью, эти сапоги всмятку? Но «Роман с контрабасом» Антоша Чехонте опубликовал в 1886 г., почти на полвека опередив обэриутов.
«Если бы он даже ничего не написал, кроме „Скоропостижной конской смерти“ или „Романа с контрабасом“, то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, у которых ум „по всем жилкам переливается“»[14].
Во всех этих опытах и экспериментах точкой, вокруг которой развертывается повествование, является фабула. Антоша Чехонте до мозга костей фабульный художник, чего нельзя сказать о его ближайшем родственнике.
Антона Чехова будет интересовать обыденность обыденности, Антошу Чехонте занимает ее эксцентризм.
Принципиально отличается от чеховского и основной эмоциональный тон, архитектоническая форма Чехонте.
Доминантой мира Чехова оказываются меланхолия, лиризм, сглаживающий и примиряющий противоречия.
Он присутствует и у Антоши Чехонте («Приданое», «Шуточка», «Свирель»), но как одна из периферийных эмоций в составе более сложного архитектонического целого. Гораздо чаще он завершает тексты на комической ноте, причем юмор у него распространен намного больше, чем сатира: на одного «Унтера Пришибеева» или «Маску» приходится десятки сюжетов, ориентированных на смех как таковой, на гармонизирующее, приемлющее отношение к миру (в диапазоне от «Налима» до «Жалобной книги», от «Романа с контрабасом» до «Без заглавия»). Не менее часто Чехонте демонстрирует трезвость и жесткость наблюдателя-натуралиста, архитектоническую форму, если можно так выразиться, прозаизма: такова жизнь, и ничего с ней не поделаешь.
Этой эмоции прямо противоположна еще одна, весьма редко сознаваемая. «Обстоятельно разработанной биографии Чехова еще не написано. Когда она появится, откроется, может быть, что Антон Павлович был мистик по природе!» – с сильным нажимом писал в статье, так и названной «Мистицизм Чехова» (1970), эмигрантский историк Н. И. Ульянов[15]. Образцами чеховского мистицизма наряду с «Черным монахом», «Чайкой» и «Архиереем» служили для Ульянова «Драма на охоте», «Шампанское», «Страх».
Чехов-мистик – явное преувеличение. Но таинственное как тема, несомненно, привлекает Антошу Чехонте в более чистых формах, чем его позднейшего родственника. В «Черном монахе» раздвоение героя объективировано и мотивировано («Психиатрический рассказ», – говорил Чехов Щепкиной-Куперник), в «Страхах» доминирующее заглавное чувство – нет.
Чехонте – умелый новеллист, жесткий и трезвый наблюдатель, социальный хирург, весельчак, юморист и сатирик, мистик и лирик. Чехонте – это «драма имени» (М. Сендерович): противоречивые поиски, варианты и пробы, в которых экономическая и культурная зависимость оборачивается творческой свободой, – ответственность до конца не осознана, мир открыт и поэтому можно «идти куда угодно».
Чехов – разрешение противоречий в форме выбора одного пути, в результате которого относительная экономическая и культурная свобода превращается в осознанную необходимость, страшную ответственность, тяжкий долг.
Чехонте – образ бесшабашного разнообразия, литературного мультикультуризма. Чехов – образец воплощенного совершенства и гармонии.
В обратной перспективе такая эволюция кажется закономерной и единственной. Однако она не была таковой в 1880-е гг.
Когда-то в статье «О природе слова» (1922–1923) О. Мандельштам выступил пристрастным и страстным критиком теории прогресса – как в применении к искусству вообще («Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества»), так и к творчеству конкретного автора («Автор „Бориса Годунова“, если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно как теперь никто не напишет державинской оды»).
«Подобно тому как существуют две геометрии – Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна – говорящая только о приобретениях, другая – только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же», – заключает поэт[16]. И оказывается прав в отношении к нелюбимому им, как и другими акмеистами, писателю.
Чехов не раз пытается вернуться к собственным лицейским опытам в духе и жанре Чехонте – в незавершенном цикле «Из записной книжки Ивана Иваныча», в желании сочинить еще один «водевиль хороший», в мистическом сюжете, который сохранился в пересказах близких людей.
«В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы – ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины» (О. Л. Книппер-Чехова)[17]
Однако все это осталось на уровне намерений и разговоров. Чехонте как самостоятельный художник прошел и ушел, был навсегда утрачен Чеховым. Но память о нем, важные поэтические принципы были усвоены автором «Студента» и «Человека в футляре».
Чехонте для Чехова: поиски и находки
В записной книжке Чехова сохранилась притча из «Заметок о жизни» А. Доде: «„Почему твои песни так крат ния?“» – „У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все“».
Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью. Петербургские «Осколки» и другие журнальчики, в которых он сотрудничал, публиковали «мелочишки» в две-четыре страницы. Дополнительные странички, как и право сочинить что-то без сугубой насмешливости, приходилось выпрашивать у редактора как особой милости.
Но когда нужда в формальных ограничениях исчезла, привычка или изначальное писательское свойство писать кратко остались и даже стали предметом особой гордости. «Умею коротко говорить о длинных предметах» (Е. М. Линтваревой, 23 ноября 1888 г.; П 3, 76). «Приготовляю материал для третьей книжки («Хмурые люди». – И. С.). Черкаю безжалостно. Странное дело, у меня теперь мания на все короткое. Что я ни читаю – свое и чужое, все представляется мне недостаточно коротким» (А. С. Суворину, 6 февраля 1889 г.; П 3, 145).
Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего деталь (потом ее стали привычно называть чеховской). Она заменяла подробные, развернутые романные описания штрихом, намеком, по которому внимательный читатель мог (и должен был) восстановить целое.
«По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер propos (кстати. – И. С.). Общие места вроде: „Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч. „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.» (П 1, 242), – наставляет Чехов старшего брата Александра. Эту деталь он использует в рассказе «Волк», а потом, еще раз сократив, подарит в «Чайке» писателю Тригорину.
Тот же принцип краткости и точности применяется к изображению человеческой психологии. В повести «Скучная история» нам позволено прочесть в письме одного из героев лишь «кусочек какого-то слова „страстн…“». И за этим кусочком (конечно, соотнесенным с развитием фабулы) встает драматическая история его трепетно-неразделенной любви.
«Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»[18].
В наследство от Антоши Чехонте Чехов взял и другое: внимание к сиюминутности, интерес к самым разным сторонам человеческой жизни. Чеховские тексты необычайно информативны: дамские моды и дачные радости, профессорские лекции и каторжные работы, газетные объявления и церковные службы, свадьбы, погребальные обряды, громкие судебные процессы – чего только не отразилось в этих коротких рассказах и тоже недлинных повестях.
Круг затронутых тем и предметов, а значит, и соответствующих жанров кажется поначалу необъятным. Чехов занял бы, вероятно, если бы захотел, место «жанриста», создателя увлекательных фабульных произведений, с юмором, приключениями, броскими типами-клише, – место, так и оставшееся в русской литературе XIX в. вакантным.
Но, публикуя все это, писатель еще в 1880-е гг. делает выбор, сознательно отсекая, отбрасывая все эффектное, броское, экзотическое. «„Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. – услышит от него пришедший познакомиться Короленко. – Вот“. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мною и сказал: „Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница». И глаза его засветились весельем“»[19].
Лет через пятнадцать более молодой собеседник, чеховский знакомец уже ялтинских времен, А. Куприн, услышит от него нечто похожее. «Он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. „Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и всё“»[20].
Два типа фабулы, две эстетические тенденции, если угодно – две литературы воспроизведены Чеховым виртуозно. Роман приключений (нечто в духе Жюля Верна, которого Чехов специально пародировал еще в 1882 г.), разбавленный философией (не покорять полюс спешит герой, а искать примирения с людьми) и сдобренный обязательной любовной интригой, подвергается экзекуции смехом. Ему противопоставляется простая-простая история о Петре Семеновиче и Марье Ивановне, Пете и Маше.
Такова сверхкраткая формула чеховского рассказа и повести: обычный, ничем не примечательный человек в обыденных обстоятельствах, «реализм простейшего случая» (Г. А. Бялый).
«Вот меня часто упрекают – даже Толстой упрекал, – что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад! – Он грустно усмехнулся. – Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!»[21]
Чеховская жизнь легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы: «Норма мне не известна, как не известна никому из нас» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.; П 3, 186).
В ней если и происходят дуэли, то они кончаются примирением. Если и убивают, то не патологические злодеи или философы-экспериментаторы (как у Достоевского), а случайные заблудшие души или бабы-приобретательницы, избавляющиеся от возможных наследников.
«Сергеенко пишет трагедию из жизни Сократа. Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса, – иронизировал Чехов, узнав, что его таганрогский земляк и соученик по гимназии взялся за идейную драму. – Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку» (А. С. Суворину, 2 января 1894 г.; П 5, 258).
Он сам мог писать и о Сократе, но поставив его в ту же ситуацию, что и кухарку.
Любого человека – монаха, нищего, чиновника, университетского профессора, институтку и «падшую женщину», ребенка и старика – Чехов испытывает общими обстоятельствами: богатством и нищетой, любовью и ненавистью близких, болезнью и смертью. Меняются имена, интерьеры и пейзажи, но постоянно воспроизводятся, повторяются ситуации, в которых оказывается (может оказаться) практически каждый из нас. В кратких, «короче воробьиного носа», рассказах неспешно развертывается извечная драма человеческой жизни – «скучная история». Чеховский герой проходит предназначенный ему (автором и обстоятельствами) путь.
Детский мир: образ и взгляд
Тема детства – сравнительно позднее литературное открытие. «Только романтизм почувствовал детство не как служебно-подготовительную фазу возрастного развития, но как драгоценный мир в себе, глубина и прелесть которого притягивают взрослых людей»[22].
Этот мир постоянно находится в поле внимания большой русской литературы XIX в. – у Лермонтова, Аксакова, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Причем почти всегда такая поэзия и проза автобиографична или автопсихологична. Ведь воспоминания, собственный опыт – всегда под рукой. О детстве сочиняют первые стихи и повести. Даже в старости, в ностальгической дымке невозвратимого, оно помнится лучше, чем все последующее.
Чехов, однако, необычайно закрытый писатель. «Автобиография? У меня болезнь: автобиографофобия. Читать про себя какие-то подробности, а тем паче писать для печати – для меня это истинное мучение» (П 8, 284), – отшучивался он в 1899 г. на просьбу адресата, посылая на отдельном листке лишь несколько «голых дат». А десятилетием раньше убеждал старшего брата Александра: «Главное, берегись личного элемента… Точно вне тебя нет жизни! И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай людей, а не самого себя» (П 3, 210).
Поэтому в чеховском городе, главном, доминантном хронотопе чеховского мира, обычно не находят одного очень важного персонажа.
«Нет автора этого города. Где-то мелькнет его тень: в загорелом подростке, который только что вернулся из поездки по степи, в гимназисте, в студенте, во враче. Тень… Но нет его „Детства“ и „Отрочества“, „Гимназистов“ и „Студентов“, „Университетов“ и „Записок врача“. Мемуаров и дневников тоже нет»[23].
Его «Детства» и «Отрочества» действительно нет. Но книга о детстве, первая часть воображаемого чеховского романа, Чеховым все-таки написана. Ее главами оказываются «Гриша», «Ванька», «Иван Матвеич», «Володя», «Степь» – всего около трех десятков текстов.
М. П. Громов составил каталог персонажей чеховской прозы (только прозы!), перепись населения чеховского города. Оказывается, в нем «целая армия людей» – восемь с половиной тысяч, представляющих едва ли не все социальные, профессиональные, психологические группы России рубежа веков. Здесь аристократы, помещики, купцы, фабриканты, жандармы и профессора, чиновники всех рангов и ведомств, художники, музыканты, писатели, крестьяне и мастеровые, мещане, священники, лакеи. «В целом в повествовании Чехова детей – этих „самых полезных, самых нужных и самых приятных людей“ – много, около трехсот»[24].
Детская тема возникает у Антоши Чехонте с первых его литературных шагов. «Каникулярные работы Наденьки N» – четвертый текст в его собрании сочинений, написанный в дебютном 1880 г. «После театра» появляется в 1895 г. Пятнадцать лет из чеховских писательских двадцати пяти. Тонкая тематическая линия, пунктир, позволяющий судить о чеховском художественном мире в целом.
Чехов – художник анекдотического видения, мгновенно замечающий и фиксирующий парадоксы и несообразности человеческой жизни. И его детские рассказы часто вырастают из пародии и анекдота, хотя вещи, о которых идет речь, далеко не всегда смешны.
Институтка считает, что говядина делается из быков и коров, и списывает (точь-в-точь как нынешние школьники!) кусок своего сочинения у Тургенева («Каникулярные работы Наденьки N»).
Гимназист Вася Оттепелев (как когда-то и сам Антоша Чехонте!) никак не может, несмотря на все молитвы, сдать проклятый экзамен по греческому языку и после порки «умным и образованным» жильцом отправляется служить по торговой части («Случай с классиком»).
«Торжественная порка» – повторяющаяся ситуация в чеховских рассказах. Мировой судья Полуехтов порет по просьбе матери провинившегося гимназиста за двойку по греческому и возвращается к прерванному разговору о гуманности и изящных искусствах, о Лессинге и Шекспире («О драме»). Становой пристав срывает свой карточный проигрыш сначала на пушкинских стихах, а потом на сыне («Не в духе»).
Чехов любит писать такие рассказы-дублеты. Ставя различных героев в одинаковые ситуации, он подчеркивает какие-то глубинные черты человеческой психологии (увы, не самые лучшие). Рассуждающий о прекрасном судья по сути – такой же дикий «печенег», как и соблазненный «бесом жадности и корыстолюбия» становой, его философствование об искусстве стоит ничуть не более, чем глумливые комментарии к Пушкину.



