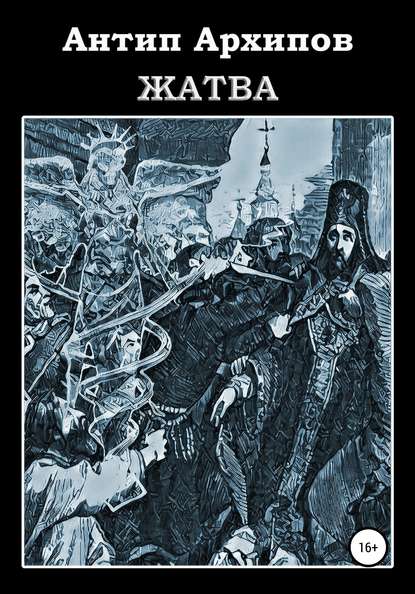 Полная версия
Полная версияЖатва
Я с самого начала планировал от них избавиться, но сделать это хотел пристойно. Чтобы они доделали свою тяжелую работу, на которую мне в силу возраста просто не хватит сил, а уже после я бы щедро с ними «расплатился». Но все пошло не по плану. Очевидно, увидев меня спящим, мерзавцы решили тут же свернуть мне шею и забрать мой кошель. Ну что ж, сами напросились…
На правой руке я всегда ношу перстень с выступающим тонким шипом. Полость внутри перстня заполнена одним из самых страшных ядов – ядом древесной лягушки, что водится в болотах Нового Света. На самом перстне есть шип, соединенный с полостью посредством тончайшего канала, по которому яд поступает в сделанный этим шипом прокол.
Схватив душащего меня мерзавца за руку, я слегка царапнул его. Тот ойкнул и спустя секунду отпустил мою шею и завалился на спину, схватившись руками за грудь и извиваясь в конвульсиях. Похрипев с полминуты на глазах изумленных товарищей, он затих.
Я не стал ждать, пока двое других опомнятся и набросятся на меня. Сунув руку за голенище сапога, я выхватил нож и метнул его, целясь в лоб того, в чьих руках был тяжелый заступ. Тот охнул, отпустил инструмент, и, схватившись за голову, упал навзничь.
С третьим я поступил еще проще: пока он круглыми от ужаса глазами смотрел на второго подельника, лежащего в траве с торчащей изо лба рукоятью кинжала, я вскочил на ноги и схватил валяющийся на земле заступ. Широко размахнувшись, я снес половину его черепа. Без звука, руанец повалился на своего товарища.
Ну вот и все. Я осмотрелся и вздохнул. Конечно, мой страшный друг несомненно сейчас доволен – каждый убитый моими руками человек насыщает Его ненасытную утробу. Но основная работа, ради которой я нанял эту троицу не доделана. Я заглянул в яму, которую они копали и увидел, что там лишь земля без каких-либо признаков того, что мне нужно. Заступ все еще был зажат в моей руке, поэтому я спрыгнул вниз и, поморщившись от боли в пояснице, принялся за работу.
К счастью, сторож не солгал, когда говорил, что их зарывали не глубоко. Уже после шестого взмаха я услышал звук удара обо что-то деревянное. Обрадовавшись, я размахнулся сильнее, целясь туда откуда донесся звук и в следующее мгновение, едва не упал вперед, увлекаемый тяжестью провалившегося в пустоту заступа. Старое, полусгнившее дерево, из которого был сделан гроб, не выдержало удара и рассыпалось в прах. Из образовавшегося отверстия выскочило небольшое облачко пыли. Я быстро отвернулся и поспешно достав из кармана платок, обернул им свое лицо. Я знал каким смертельно опасным может быть эта пыль. После, я снова обернулся и, стараясь не делать сильных вдохов, наклонился над провалившимся гробом.
***
Рано поутру, когда серые сумерки еще застилали спящую Москву, в ворота тына забарабанили. На дворе залаяли псы. Посланный отрок, отпер воротину и впустил одетого в скарлатный кафтан стрелецкого пятидесятника. Тот, скоро взбежав по высоким ступенькам, вошел в сени.
– Здравствуй, господин подьячий! – молвил он.
– Почто пожаловал так рано? – хмуро спросил недоспавший Устин Гордеич.
– По делу я, господин подьячий! – ответствовал стрелец. – Патриархов дьяк Иван велел вчерашнего колдуна из нашего приказа изъять.
– Куда изъять?! – поднял бровь Устин Гордеич.
– Сказал, сам де сыск учинит, ибо дело то непростое. Дело царского разбора требует. А коль царь на войну ушел да вместо себя Патриарха Никона оставил, то Патриарх и будет с колдуном Филькой разбираться.
– Дементий Минич про то ведает?
– Не знаю, господин подьячий! Дьяк Иван нынче за полночь явился, так я сразу к тебе.
– Ладно, ступай! – махнул рукой Устин Гордеич. – Сам доложу.
Пятидесятник ушел.
Старший подьячий наскоро умылся, съел пряженого мяса, запил квасом, оделся и, не простившись с женой, вышел из дому.
Резвый ахалтекинец в полчаса домчал его до Кремля. Время было ранним. Великий город еще спал, лишь на крестцах улиц уже копошились калики и юроды, роясь в кучах отбросов, расставляли свои лотки торговцы, да на церковных папертях собирались нищие, дабы к заутрене занять лучшее для подаяния место.
На взгорье у покровского собора Устин Гордеич, натянул поводья и остановил коня. Обернувшись, посмотрел назад на Москву-реку, что тянулась серой лентой за черными крышами Зарядья. Позади нее, насколь хватало глаз, раскинулись слободы да посады, окруженные земляным валом. А еще далее, широкой, алой полосой поднималось над городом летнее Солнце, готовое обогреть своими лучами всех без разбору: богатых и нищих, младых и старых, добрых и злых.
У моста, ведшего к бывшим Фроловским, ныне Спасским вратам соскочил Устин Гордеич наземь. Никому, окромя государя, не дозволено въезжать в Кремль верхами.
Под круглой аркой подьячий стянул с головы шапку и перекрестился на темный лик Спасителя, молча взирающего на него своим проникновенным взглядом.
К высокой избе Стрелецкого приказа подошел, ведя коня в поводу. Привязав поводья к коновязи, обернулся на колокольню Ивана Великого и снова осенил себя крестным знамением. Взбежал по ступеням, толкнул тяжелую дверь, вошел.
__________
Дьяк «в государевом имени» Дементий Минич Башмаков в объяровом опашне сидел за высоким столом и длинным, гусиным пером быстро писал в толстой книге.
Дьякова келья была безоконной, но светлой. Несколько толстых свечей стояли по трем углам, погруженные в заплывшие воском шандалы. В четвертом углу теплилась лампадка, освещая Нерукотворного Спаса.
Почуяв шаги, дьяк поднял голову и взглянул на вошедшего. Был он уже не молод, почти сорок годов. Коротко остриженные волосы серебрились сединой, борода и усы, напротив – были чернее смолы. Этой зимой схоронил он умершую от горячки жену, очень по ней тосковал, да чтобы забыть свое горе, домой почти не ходил, все больше в приказе сиживал.
– Устин? Ну здравствуй, отчего так рано явился? – спросил Дементий Минич.
– Здравствуй, дьяче, – поклонился Устин Гордеич и перекрестился на Спаса. – Ведомо ль тебе, что патриархов дьяк забрал из нашего поруба колдуна Филиппа?
Государев дьяк коротко кивнул:
– Ведомо. Я сам приказал его отдать.
Устин Гордеич удивился:
– Но пошто? Людишки наши полегли, а заслуга патриаршему приказу достанет?
– Ты, Устин, вчера домой ушел, а ко мне из Иноземского приказа ярыжка прибежал с грамотой. Требовал того фрязина отпустить. Шибко они боятся с фрязским королем поругаться. Государь ноне под Смоленском стоит, гонца до него слать долго. А Святейший Патриарх – тут на Москве, да вместо царя им же самим блюсти державу ставлен. И хотя нелюб мне Никон, но решил я меж двух зол наименьшее выбрать.
– Умно, дьяче. Верно, Патриарх Фильку не выдаст…
– Не выдаст, – уверенно сказал государев дьяк. – Иван, забирая фрязина поведал, что Святейший велел немедля судилище устроить. Радеет, чтобы Иноземский приказ государю нажаловаться не успел бы. А государь ноне на одной войне, и во избежание другой может помаслить фрязскому королю, да колдуна отпустить. Так, что ныне будет над тем фрязином суд.
– Добро, – произнес Устин Гордеич. – Дозволишь, дьяче, и мне на судилище быть?
– На что тебе?
– Желаю посмотреть, как сучий сын страдать будет.
Дементий Минич усмехнулся.
– Ладно. Начертаю для дьяка Ивана, чтоб допустил тебя до суда. Только смотри зорче, да чуй острее, после мне перескажешь, уразумел?
– Уразумел. Спасибо, дьяче, – Устин Гордеич снова поклонился.
***
Ну вот и все, в Руане мне больше нечего было делать. То, зачем я приехал, лежало в притороченной к седлу дорожной сумке. Теперь можно двигаться дальше.
А дальше, я намеривался направиться в столицу Московии, чтобы приступить к основному этапу своей работы. Но до этого, мне пришлось заехать в Вильно, где меня ожидал шляхтич Романовский, с небольшим обозом в несколько груженых разнообразным товаром телег и десятком, переодетых слугами, воинов. В Московию я намеривался въехать под видом французского купца, чтобы, не вызывая подозрений у тамошнего начальства, устроиться как можно ближе к самому сердцу страны восточных варваров – к Кремлю, где стоит царский дворец.
На всю дорогу ушел месяц, и вот, в начале июня мой обоз въехал в грязный, несуразно организованный город, населенный преимущественно оборванцами и вооруженными примитивным оружием солдатами-streltsami.
Впервые проезжая по тесным, изредка мощеным досками улочкам столицы русского царства, я удивлялся тому, как все здесь не похоже на привычную мне Европу.
Москва, с ее разбросанными во все стороны петляющими как им вздумается улицами, скорее походила на большой азиатский город, отличаясь от них лишь тем, что здесь все было деревянным и серым. Исключения составляли церкви, которые русские строили либо из белого камня, либо из красного кирпича и которых здесь было невообразимо много.
«Это хорошо», подумал я. Если московиты так религиозны, значит у них не развита научная мысль, как когда-то было и у нас в Европе, когда костры инквизиции не давали развиваться светским наукам, и прежде всего медицине, полагая ее колдовством».
И действительно – пока ехал по Москве, не встретил ни одной лекарской лавки, что вселяло в меня надежду на успех моего дела.
Записавшись в Торговой палате французским купцом Филлипом де Маниаком, я узнал у местного чиновника, где можно снять помещение поближе к Кремлю, объяснив свое желание тем, что мой товар дорогой, по карману лишь очень обеспеченным покупателям. Мне предложили несколько вариантов из которых я выбрал тот, который больше всего подходил для моих целей – в Kitay Gorod’е, на перекрестке, рядом с торговыми рядами. Прямо из окон снятой мной лавки была видна зубчатая стена кремлевской крепости.
Вот теперь все было готово для того, что приступить к последнему этапу моей работы.
***
В пытошной комнате Судного приказа, которая находилась в глубоком подвале патриарших палат, было темно, душно, пахло затухшей кровью, кислой блевотиной и опрахтелым человечьим навозом – всем тем, из чего слеплен, созданный по образу и подобию Божию человек.
Поймав себя на этой мысли, Устин Гордеич тут же недовольно покачал головой, укорив себя за богохульство. Нет, не только из мяса и крови сделан человек, но и из духа святого, что живет в каждом из нас. А дух этот и есть – подобие Божие.
Отерев взмокший от испарины лоб рукавом кафтана, он взглянул на сидящего за столом тощего человека в черной скуфье на безволосой голове, и такой же черной, поношенной рясе. Это и был главный доверенный патриарху дьяк Иван Корнильевич Шушерин.
Кроме них двоих в комнате был толмач, да готовил дыбу кат Тараска в расстегнутой бордовой рубахе и засученными до локтей рукавами. Шлепая босыми ногами по гниющим лужам, он суетился подле подвешенного к матице колеса.
– Живее, Тараска, живее, – скрипучим голосом подгонял его дьяк Иван. – Скоро уж баальника доставят, а ты воно все возишься.
– Я, отец дьяче, не вожусь. Я ремень ужо сменил, сейчас маслом капну и готово. Баальника как милаго потяну, все исскажет…
Палач поднес к колесу бутыль и тонкой струйкой принялся лить темную жидкость на колесо.
За дверью раздались шаги.
– Ведут, – молвил дьяк. – Готово, Тараска?
– Усе, – кат заткнул бутыль и отставил ее в угол.
Тяжелую дверь толкнули и на пороге показались двое дюжих стрельцов, держащих в руках завернутый в рогожу куль. Протащив куль по полу к свисающей с потолка веревке, они взметнули его вверх, а подскочивший Тараска быстрым движением набросил на торчавшие из-под рогожи заломленные руки, петлю.
– Бросай! – крикнул палач. Стрельцы отпустили куль и тот под своей тяжестью рухнул вниз, однако до пола не достал, рванулся и задергался, издавая смешанный со сдавленным мычанием хруст вырываемых суставов.
– Бойко! – одобрил дьяк, почесав пером за ухом. – Сыми рогожу.
Палач дернул за край тряпки, и та сползла, показав подвешенного за руки тщедушного человека с заткнутым куском тряпки ртом. Дьяк указал кончиком пера на кляп.
– Вынь, – приказал он. Тараска исполнил.
Виселец сразу же принялся хвать ртом спертый воздух пытошной, пытаясь осмотреться выпученными от боли глазами.
– Ну, что, Филипп дэ Маниак, фрязский купец, сознаешь себя в колдовстве да чернокнижии? – Дьяк Иван Шушерин, не моргая, уставился на пленника.
Толмач, споро подбирая слова, перевел.
Подвешенный к потолку человек не ответил. Он уже не стонал, лишь громко скрипел зубами.
Дьяк чуток обождал, после махнул рукой, продолжай, мол. Палач привязал к ногам пленника другую веревку, шедшую к вделанному в стену кресту. Крутнул его раз, другой, тело висельца вытянулось, снова послышался хруст и одновременно с ним крик боли.
– Повторю вопрос, – проскрипел дьяк. – Признаешь себя в колдовстве, сучий сын, Филип Де Маниак?
Толмач снова перевел на фрязский.
На сей раз пленник закивал головой. Дьяк приказал ослабить веревки. Фрязина опустили на пол, после чего стрельцы подняли расслабленное тело и усадили его на стоявшую у стены лавку.
– Будешь говорить? – спросил дьяк.
– Да, – не дождавшись перевода, просипел пленник. – Не надо толматч, я так все понимать.
– Вот как? – удивился дьяк. – Споро ты по-нашему разуметь выучился. Добро сие. Знать быстрее договоримся. Ведь договоримся?
– Да, – снова кивнул фрязин. – Но сначала я требую французский посол.
Шушерин хмыкнул и поскреб ногтями высокий лоб.
– Посла требуешь? Что ж, я не против. Посла так посла… – он нехотя поднялся со стула и подошел к сидящему фрязину.
– А ведь мы с тобой одних лет, – проговорил он, всматриваясь в лицо Де Маниака. – Тебе сколько? Пять десятков годков поди есть?
– Шестьдесят семь, – пробормотал фрязин.
– Ишь ты, шестьдесят семь. Нет, брат, ты много старше меня будешь. Пожил, небось видел многое, знаешь поболе мово… – Дьяк вздохнул. – Да только одного ты не ведаешь, Филипп к стулу прилип, – Шушерин улыбнулся, обнажив два ряда мелких, желтых зубов. – Ежели попал в мой приказ, то будь уверен, здесь я и посол, и судья, и палач, и царь, и бог…
В следующий миг, дьяк неожиданно выбросил вперед руку с вытянутым перстом и с силой ткнул им в глаз фрязина. Тот охнул и откинулся назад, ударившись затылком о кирпичную стену. По его правой щеке потек темный ручеек. А в глазнице теперь темнело мокрое, блестящее.
Шушерин брезгливо отер перст о подол рясы:
– Паскудство одно, – молвил он, возвращаясь на свое место за столом. – Тяжко с вами, кукуями за дело говорить. Никак в толк не возьмете, что здесь – Русь, а не неметчина, прости Господи. Здесь наша сторона и законы наши, и мы сами ведаем как по ним судить да рядить. Так, что, Филипка, не будет тебе посла, а буду я да вот этот молодец, – дьяк кивнул головой в сторону мрачно лыбящегося палача Тараску.
– Уяснил?
Де Маниак молчал. Уцелевший его глаз был мутен и быстро вращался внутри глазницы.
– Ну-ка, Тарас, приведи гостя в чувство, – сказал Шушерин и, повернулся к старшему подьячему. – Вишь, Устин Гордеич, каково тако трудно нам в наших заботах. Каждое слово с превеликим усердием вырываем, а Святейший торопит, отчета ждет… Так и передай Дементий Миничу.
– Дементий Минич ведает ваши труды, – ответил Устин Гордеич и кашлянул – видно в горле перехватило от удушливого воздуха. – А что Патриарх самолично не пришел?
– Нам холопам о том знать не положено. Придет, на то его святейшая воля, не придет, на то она же… Ну, что там, Тараска, готово ли? – Шушерин обернулся к палачу.
Тот возился у раскрытой печи, гремя вставленными в горнило железными прутами. Выбрав один, он вытащил его из полымя и пошлепал к обезмолвимшему от боли фрязину. Прут был раскаленный, ярко-красный, но Тараска нес его голой рукой, нимало не кривясь от жара.
– От чертяга, – одобрительно сказал Шушерин. – Все нипочем. Даже не знаю како его самого пытать буду коль придется.
– А ты меня сразу пореши, – осклабился палач. – Пошто меня пытать. Рази я што ведаю?
– Подерзи мне еще! – грозно сдвинул брови дьяк. – Давай фрязина буди…
Тараска поднес раскаленный прут к лицу Де Маниака и ткнул им в месиво, образовавшееся в правой глазнице. Там зашипело и пытошная тут же наполнилась вонью горелого мяса. Устин Гордеичу сразу нечем стало дышать, и он зашелся в кашле.
Пленник дёргался на лавке и кричал от боли.
– Нутко, нутко, не дури… ништо загноится, – сказал палач, вертя прутом внутри глазницы.
В это время за закрытой дверью послышались редкие, глухие удары. Дьяк Шушерин, учуяв их, переменился в лице и засуетился.
– Што там, Тараска? Может фрязин говорить?
Тот пожал плечами:
– Не ведаю наверно.
Дьяк покачал головой:
– Худо. Патриарх идет. Накаркал ты, паря, – укоризненно бросил согнувшемуся в кашле подьячему.
***
Когда Он впервые пришел ко мне в той монастырской келье, куда меня заточили за отказ нести до могилы моих мучителей, я стоял у забранного решеткой окна и плакал. Мне было стыдно и больно.
Больно от того, что меня жестоко высекли по спине, и она мучительно горела. А стыдно из-за того, что я на какое-то время вообразивший себя вершителем чужих судеб, и в гордыне своей уже уровнявший себя с самим Господом, был низринут и унижен этой поркой.
– Не плачь, – сказал Он тогда. – Боль иллюзорна. Она здесь, – Он указал на мою голову. – Если ты уверуешь, что ее нет, то ее не станет. Равно как и стыда. Все, что вы люди имеете, идет из вашей головы. Выброси из нее все, что мешает и станет легче.
Я выбросил. И мне действительно стало легче. С той поры, я всегда знал, что надо сделать, чтобы меня не терзали ни боль телесная, ни боль душевная.
Даже тогда, когда Он открыл мне, что придется свершить во исполнение просьбы Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла.
Остановить войско русского царя можно было лишь одним способом – умертвить его семью. Но Он, в своей великой мудрости пошел дальше. Он подсказал мне наслать смерть не только на семью царя, но и на все русское царство. Ту смерть, которую в Европе зовут Черной Смертью, и которую почти совсем не знают в Московии.
В Руане я раскопал гроб человека, некогда умершего от моровой язвы. Я взял его кости, смочил их кровью убитых мной руанцев, и этим раствором наполнил малую склянку, который надежно спрятал в седельной сумке.
С этим раствором я прибыл в Москву.
От Него я знал, что мало распространить болезнь. Необходимо приспособить ее к местным жителям и паче того – к местным холодам. Ведь благодаря им московитам была неведома Черная Смерть, беспрепятственно гулявшая по всей Ойкумене, но обходившая стороной сию проклятую землю. Эту то проблему мне и предстояло решить первым делом.
__________
В снятой мною лавке был подвал, состоявший из двух комнат, соединенных промеж себя недлинным проходом. Обнаружив его, я удивился – для какой цели могло понадобиться прежнему владельцу эта вырытая в земле нора? Возможно для контрабанды, мне же этот подвал пригодится для обустройства в нем лаборатории, где я сделаю посев.
С человеческим материалом проблем тоже не возникло – в Москве полно голодранцев, готовых за малый посул идти с незнакомцем куда угодно.
Уже через неделю в моей лаборатории находилось достаточное количество подопытного материала.
Я постарался собрать представителей всех возрастных групп: детей, начиная от трех лет до десяти, мужчин и женщин от тридцати до пятидесяти и пару древних стариков, которые меня в общем-то мало интересовали, но, для чистоты эксперимента я добавил и их.
Кроме того, у меня была своя мадонна – совсем молодая девушка с младенцем – ее я заманил, пообещав цветастый платок для нее самой, да пряник для ее малыша. Какие же они тут все наивные, доведенные до отчаяния нечеловеческими условиями, в которых вынуждены прозябать всю свою жизнь. В каком-то смысле я даже всем им делал благо: перед тем как сделать первый посев, я досыта всех кормил-поил, спали они, пусть в клетках, но в тепле, на мягких бумажных тюфяках. Я думаю, что о такой жизни, раньше они только могли мечтать. Но неблагодарные твари, постоянно скулили, прося выпустить их обратно. А молодые мужчины, даже пытали на моих клетках свою силу. Пришлось их утихомиривать, подмешивая в пойло, которое московиты зовут kvas, маковый отвар.
Примерно через две недели все было готово к экспериментам. Вначале, я посадил семена смерти в самых старых московитов и первые признаки болезни проявились тут же.
Старуха испустила дух прежде старика, почернев и вздувшись уже через шесть часов после посева. Старик продержался на два часа дольше.
После стариков я приступил к детям. Все они, начиная от младенца, которого я напоил зараженным молоком, до десятилетки, показали тот же результат, что и старики. Увлеченный научной работой, смотрел я как дети начинали кашлять, после у них поднималась температура, переходящая в жар, на их телах высыпали мелкие прыщи, перерождавшиеся затем в гноящиеся раны, кожа их чернела, а тела раздувались. После чего они умирали.
Для того, чтобы мои подопытные не перезаражали друг друга раньше времени, мне пришлось их изолировать, укутав каждую из клеток толстым слоем шелка.
Далее, я начал по одному заражать молодых мужчин и женщин, постепенно опуская температуру в помещении. Подвал был вырыт на глубине примерно шести -десяти футов и, хотя в нем и так было достаточно холодно, я стал вносить в него купленный у местных, заготовленный еще с зимы лед, продолжая наблюдать, как реагирует на это посев.
Все шло хорошо. Я думаю, что еще две-три недели и я смог бы вырастить устойчивые к московским холодам семена. Но черт бы побрал этих московитов! Кто-то доложил властям о том, что я ворую людей.
Первый офицер пришел ко мне неожиданно. Когда он начал задавать свои вопросы, я растерялся. Работая без перерыва две недели подряд, я устал и потерял бдительность. Надо было сразу самому обезвредить мерзавца, но вместо этого, я кликнул молодцев, тех самых воинов хорунжия Романовского, которые прибыли со мной в Москву под видом приказчиков. Те кинулись на офицера, чтобы скрутить, но подлец оказался ловчее – успел достать саблю и ранить одного из моих воинов, после чего, воспользовавшись замешательством, выскользнул из лавки.
Тут я снова дал маху. Вместо того, чтобы бросить все и бежать, я понадеялся на медлительность московитов, которые обычно всегда все решают неспешно. Однако, на сей раз я ошибся.
Уже через пару часов в дверь моей лавки застучали. Я выглянул в окно и увидел, что улица полна красными камзолами streltsov. Выбора у меня не было. Сдаваться на милость московитов я не желал. Созвав всех своих воинов, я приказал им открыть огонь прямо через окна и двери. Отразив первый натиск, мы отступили, укрывшись в лаборатории. Несколько часов мы оборонялись, но я понимал, что это конец и моя работа в Москве закончена. Процесс, конечно, уже начался, и он необратим – все те, кто сейчас со мной в лаборатории, я сам (поскольку был без изолирующей органы дыхания повязки) а также те, кто войдет сюда – обречены. Взращенные мною семена уже жили своей жизнью, размножаясь везде, где были для этого благодатные условия. В принципе, работу можно считать выполненной, и не важно, что эта работа стала последней для меня, ведь даже если бы не Черная Смерть, уже поселившаяся внутри моего тела, то ждать пощады от московских streltsov было глупо.
Особенно от этого бородача в красном камзоле, который, ворвавшись в лабораторию, увидел подопытных и, взревев, кинулся на меня. Он и сейчас сидит, и смотрит волком, наблюдая за моей пыткой. Думаю, что он многое бы отдал, чтобы оказаться на месте палача, который жжет остатки моего глаза раскаленным железом…
… ах, он кашляет…
Ну, что же, вот и до него добрались пророщенные мной семена. Добро пожаловать в царство смерти, дружок…
И ты, мой мучитель, выколовший мне глаз. Кровь моя, оставшаяся на пальце твоем и одежде твоей полна семенами Его и скоро ты, сам того не подозревая, понесешь их по этому гадкому, грязному городу… И хорошо, что все началось именно здесь, в Кремле, как я, нет… как Он того хотел…
***
Услышав раздавшиеся снаружи гулкие удары патриаршего посоха о камни пола, дьяк Иван Шушерин быстро шмыгнул к двери, и поясно согнувшись, потянул железное кольцо, отворяя ее. Дверь заскрипела.
На пороге, едва освещенная тусклым светом сальных свечей, стояла высокая фигура в черной мантии и монашеском клобуке, опиравшаяся на длинный посох о двух змеиных головах. Темные глаза, прищурившись, осмотрели пытошную и тихий, властный голос молвил:
– Все вон… я сам с ним поговорю.
***
Боль ушла сразу, едва я увидел Его, стоящим на пороге этого пыточного застенка.
Все в той же черной мантии, но почему-то с гермесовым змееголовым кадуцеем в руке, Он дождался, когда остальные уйдут и медленно прошел в комнату, в которой меня пытали.

