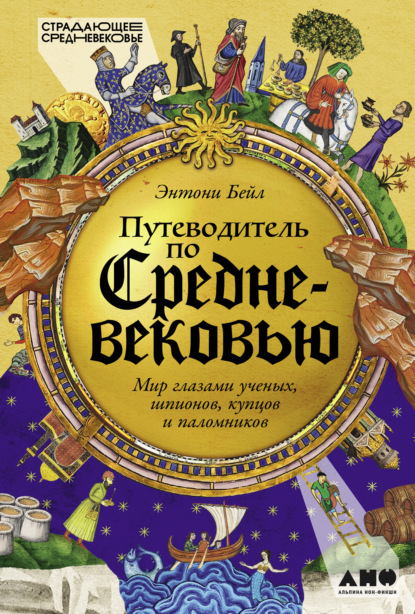
Полная версия:
Путеводитель по Средневековью: Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников
Многие авторитетные древние географы и философы размышляли о существовании четвертого материка – обитаемой земли, лежащей за жарким поясом и отделенной от уже известных Африки, Азии и Европы.
В средневековой Европе широкой известностью пользовался «Сон Сципиона» («О государстве», кн. VI; 54–51 гг. до н. э.) Цицерона с комментариями Макробия. Цицерон описывает жителей далеких земель «восходящего или заходящего солнца», мир далеко за пределами населенной римлянами небольшой северной области (то есть бассейна Средиземного моря). Согласно Цицерону, население южных зон («жители которого, ступая, обращены к вам подошвами ног»[4]) никак не может сообщаться с северной зоной Европы, однако авторы глобуса Бехайма новаторским образом соединили их. Блаженный Августин (354–430) в сочинении «О граде Божьем» допустил возможность существования антиподальных областей, однако счел «крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека»[5].
Многие географы и картографы считали, что Индийский океан – своего рода озеро, окруженное сушей. К XIV веку уже широко распространилось представление о том, что на юге простирается terra incognita – так или иначе достижимая и составляющая единое целое с исследованными и обжитыми землями. Точные контуры и координаты этих районов составляли предмет для дискуссий. Стало понятно, что жаркий пояс не является в принципе непреодолимым препятствием. Создатели глобуса Бехайма (следуя за Сакробоско и Мандевилем) сообщают, что Полярная звезда у антиподов не видна. Они указывают, что на лежащем восточнее Явы острове Кандин, а также на Яве и на окрестных островах Полярная звезда не видна, зато видна другая – южная Полярная, «по имени Antarcticus». Это оттого, что те земли расположены в антиподальной («обращенной ногами к ногам», от греч. anti «напротив» + pous, pod- «нога») Европе. Гильом Филластр (Старший; ум. 1428), французский кардинал и страстный географ, писал, что «те, кто живет в наиболее отдаленных восточных областях, обращены ногами к ногам тех, кто живет в наиболее отдаленных западных областях». Таким образом, уже во времена Бехайма предполагалось, что земель антиподов можно достичь, а необследованные районы, вероятно, населены людьми, живущими в ожидании как христианской проповеди, так и начала торговли с Западом.
В то же время приведенные (пусть в другой форме) на глобусе Бехайма сведения соответствуют обычной для Средневековья схеме устройства мира с тремя материками, которая теперь называется картой типа T–O. Это христианское представление о Земле – буква T внутри буквы O – доминировало примерно до 1500 года. Азия при этом оказывалась вверху, Европа – внизу слева, Африка – внизу справа. Букву T образовывали три водных объекта (обычно Дон, Нил и Средиземное море), тогда как букву O представлял собой Великий океан, омывающий известный людям мир – ойкумену. На глобусе Бехайма основное место занимают соединенные океанами Африка, Азия и Европа.
Глобус Бехайма называли по-немецки Erdapfel – «земное яблоко». Название отражает средневековое представление о том, что планета есть подобие органического «плода», живого шара. Господь по щедрости Своей наделил нас совершенным творением – его отражением и является нарисованный мир, испещренный маршрутами, которыми уже проследовали путешественники (в том числе сам Бехайм), и включающий в себя все те земли, которые путешественникам еще только предстояло увидеть за морем. Это похоже на крошечный шар с картой типа T–O с флорентийской фрески XIV века: его держит, как яблоко, младенец Иисус (средневековая Флоренция, как и Нюрнберг, была «космополисом», европейским центром торговли и богатства). Младенец Иисус держит в руке мир. Буква T здесь перевернута – вероятно, чтобы показать, как Бог сверху смотрит на мир.

Карта типа T–O изображала мир в триединстве, аккуратно поделенным Божьей рукой на части – материки. Это соответствует библейскому представлению, согласно которому род человеческий пошел от Адама (Быт. 9). Согласно этой этнографической теории, потомство Сима (одного из трех сыновей Ноя) населяет Азию, Хама – Африку, а Иафета – Европу. И если, как предписал Иисус (Мф. 28:16–20), апостолам христианства следовало «научить все народы», то и глобус (такой, как глобус Бехайма) помогал представить и связать воедино весь обитаемый мир, в котором Благая весть и торговля способны достичь некогда считавшихся недоступными мест, добраться до которых можно было, лишь преодолев раскаленные пустыни.
В выставленном казначейству Нюрнберга счете указано, что глобус Бехайма изготовлен для ублажения могущественного городского совета (в Нюрнберге деятельность ремесленников в городе регулировал магистрат, а не гильдии). Богатые бюргеры, вращая глобус, могли припомнить совершенные ими самими путешествия. Советник Георг Хольцшуэр (ум. 1526), который инициировал работу над глобусом и следил за соответствующими расходами магистрата, сам, в качестве купца и пилигрима, в 1470 году посетил Египет и Иерусалим. Автором иллюстраций для глобуса был Георг Глокендон (ум. 1514), составивший для немецких паломников карты Romweg, пути в Рим. Кому-то могли прийти в голову и более опасные места из тех, что уже были увидены или до которых только собирались добраться. Или соображения о происхождении товаров, торговля которыми их обогатила. Можно было поразмышлять над передававшимися из уст в уста новостями об открытиях португальцев в Африке, которые буквально с каждым месяцем переворачивали представления европейцев о мире; в скором времени в освоении новых пространств примут активное участие члены семей Бехайма и Хольцшуэра. Можно было, наконец, пофантазировать о далеких землях, известных лишь по книгам и картинам и дразнивших собой воображение.
В том месте глобуса, где должно значиться «Нюрнберг», стоит надпись: «Бехайм». Глобус был символом статуса: знания мореплавателя из Нюрнберга о целом мире могли покоиться у него в руках. Глобус, по сути, позволял Бехайму и достопочтенным нюрнбержцам взглянуть на планету словно бы глазами Господа. Глобус, таким образом, подразумевает, что Бехайм владеет пространством в прошлом и будущем – это как бы мир, увиденный сквозь призму одного человека, созданный им в определенный момент времени.
Разглядывая любую карту мира, легко позабыть о том, где ты на самом деле сейчас находишься. Как и снимки, которые привозят из отпуска, глобус может оказаться подспорьем рассказчику: что он видел в дороге, куда ездил, какой маршрут предпочел. Глобус может пригодиться в странствиях по суше и морю – правда, его размер (вещь крупная и весьма дорогая, настоящий предмет роскоши) не позволяет возить глобус с собой. Глобус Бехайма – это сувенир, воплощенное воспоминание. Одной из его задач было – помочь увидеть то или иное место мысленным взором, наглядно, в миниатюре. Всегда проще вообразить пространство, чем время: люди считают, что способны владеть пространством, но осознают, что время не в их власти. Мир на глобусе под взглядом наблюдателя мерцает, города выглядят крошечными, а красивейшие береговые линии извиваются лентами. Время в это мгновение менее важно, чем пространство, которое мы словно видим и понимаем целиком.
Глобус Бехайма появился в важный переходный исторический период – когда то, что часто называют (в Европе, по крайней мере) Средневековьем, стало напоминать раннее Новое время; речь идет о моменте накануне колонизации европейцами Америки, начавшейся после 1492 года. На природе путешествий в Средневековье сказались и другие ключевые события – например, Первый крестовый поход (1096), взятие турками-османами Константинополя (1453) и запрет паломничеств для протестантов (с 1520-х гг.).
Но можно ли вообще дать четкое определение путешествию? Перемещения в Средневековье были очень сильно привязаны к конкретным местам: покупка и продажа товаров на той или иной ярмарке, переезд из монастыря в монастырь, военный поход из одной местности в другую. Доминирующей на средневековом Западе формой путешествия стало паломничество, в котором, однако, было и нечто такое, что напоминало туризм. Паломничество предполагает путешествие, обычно по заранее определенному маршруту, в желанный пункт назначения и возвращение домой обновленным, преображенным.
Причины и мотивы паломничества были различными (иногда оно было добровольным, иногда обусловлено медицинскими причинами, иногда представляло собой меру наказания, а иногда совершалось по поручению общины), но всегда пункт назначения был определен: Уолсингем, Кентербери, Ахен, Вильснак, Кельн, Сантьяго-де-Компостела, Рим, Бари, Иерусалим. Эти и многие другие места, главные христианские святыни, притягивали паломников своей сакральной значимостью. Но примерно к 1350 году сложились привычные маршруты и инфраструктура для того, что теперь мы бы назвали массовым туризмом – вплоть до своего рода пакетных туров. Группы путешественников платили агентам и поставщикам, гарантировавшим – до известной степени – удобства, безопасность и любезный прием, плюс «туроператоры» брали на себя разрешение самых очевидных проблем: языковой барьер, транспортные услуги, обмен валют и снабжение продовольствием. Путешественники сбивались в группы непредсказуемым образом – что, естественным образом, провоцировало как разного рода трения, так и порождало дружеские чувства. Тревога относительно похода в неизвестность компенсировалась знанием того, куда именно человек направлялся и (отчасти) с кем.
Путешествие – это, по сути, род поиска: счастья, богатства, искупления грехов, однако с ним неизбежно связана и проза жизни: невзгоды в пути, обмен валюты, болезни, неудобства, задержки и отмены рейсов. У всякого путешествия свой пункт назначения и своя вспомогательная инфраструктура. Путешествие – это еще и багаж, и упаковка чемоданов, корабли и мулы, паспорта и охранные грамоты, странная еда и сомнительные напитки, безжалостное радушие, знакомство с древней и современной архитектурой, непонятно устроенные туалеты и дороги. Путешествие подразумевает интерес – на грани приличий – к одежде и обычаям других народов. Путешествующему приходится зависеть от погоды и настроения своего провожатого. Путешествие – это когда люди, не говорящие на твоем языке, вдруг проявляют к тебе дружелюбие или когда ты сам подкармливаешь бездомных кошек или ручных птиц, как будто они останутся с тобой на всю жизнь. Путешествие нежданно-негаданно поощряет равенство: путники, в силу миллиона причин, оказываются в одной компании и вынуждены стать ближе друг к другу. Дорога ставит людей в зависимость от индустрии путешествий, которая иногда помогает им, а иногда тянет из них деньги – у всех без разбора. Путешествие пробуждает необъяснимый трепет – просто от того, что попадаешь в ситуацию незнания, сулящую тебе новые миры. Путешествие дает опыт незапланированных перемещений и обескураживающие моменты дежавю. Путешествие – это попытка уйти от предсказуемости, перемещаясь между континентами и языками, от одного к другому; это побег от ошибок и неудач домашней жизни. Путешествие далеко не всегда превращается в эпическое приключение, но это всегда опыт очень личный, в котором есть западающие в память моменты экзальтации, мгновения, которые трудно облечь в слова и которые остаются в голове, – и затем ты рассказываешь о них как о чем-то очень особенном. Путешествие предполагает возмутительные обобщения, бесцеремонное наблюдение, неожиданные и при этом до странности предсказуемые происшествия – столкновения с бедностью, проявлениями враждебности и с разного рода вгоняющими в тоску явлениями. Путешествие стимулирует желание посетить места, которые знаешь по рассказам – правдоподобным, но необязательно правдивым. Путешествие занимает тело и душу, но необязательно то и другое разом. Путешествие развивает живое любопытство, но, парадоксальным образом, подразумевает и долгие периоды разного рода маеты: сидения на месте, ожидания, отсрочек, болезней, скуки. В большинстве случаев путешествие предполагает получение дохода или удовольствия того или иного рода, но в ходе поездки ее цель нередко меняется. Путешествующий часто старается приобрести «правильный» опыт, воспользоваться выгодами и дарами путешествия. Но мы забываем, сколь незначительны наши успехи: нередко подлинное положение (или расположение) путешественника остается почти неизменным.
Определение путешествия вечно оказывается неточным или неполным, ведь все без исключения путешествия – согласно замыслу или по случайности – уникальны. Если путешественники выбирают один и тот же маршрут, это вовсе не означает, что в дороге они испытают одни и те же ощущения. Путешествие – это не только сам опыт перемещения – неудобного, мучительного и унылого – по поверхности планеты, но еще и рассказы, которыми мы делимся с домашними после возвращения. Написанные путеводители нередко очень напоминают учебники по технике выживания. Авторы не столько советуют своим читателям, как получить в том или ином месте удовольствие, сколько учат, как выжить там. Однако сведения о злоключениях будущим путешественникам полезнее, чем самодовольное хвастовство удачными поездками. Мы неоднократно убедимся: чем менее благоприятно сложилось путешествие, тем живее рассказ о нем.
Мудрый совет
Того путника сочтут очень глупым, который в дороге любуется приятным лугом и останавливается, позабыв, куда он вначале направлялся.
ПОСЛОВИЦА. ЭГБЕРТ ЛЬЕЖСКИЙ «НАГРУЖЕННЫЙ КОРАБЛЬ» (THE WELL–LADEN SHIP), ОК. 1023
Перед иллюстраторами Бехайма стояла проблема, которую прежде многие картографы предпочитали обходить cтороной: вместо того чтобы оставить воображению водную ширь Атлантики, от Португалии до Японии, требовалось показать протяженность этого океана. На многих средневековых картах мира Атлантический океан представлялся «оборотной стороной» карты. Глобус же позволял наглядно показать моря, в основном неизведанные, соединяющие Европу с Азией и Африкой.
Посередине Атлантического океана, где-то западнее Кабо-Верде, помещен остров Сан-Борондон. Мелкий текст рядом с изображением острова гласит: «В лето Господне 565 святой Брендан прибыл на своем корабле к этому острову, где стал очевидцем многих чудес, а семь лет спустя вернулся в свою страну». Речь идет о легендарной Земле Святого Брендана, где очутился ирландский святой VI века, искавший рай и Землю обетованную. Кто бы ни отметил этот остров на глобусе, он не только знал легенду о Брендане, но и подстраховался, описав остров весьма расплывчато. В широко известном рассказе о святом (записанном, вероятно, в Ирландии в IX веке, но циркулировавшем также на латыни и иных языках) это утопия: заросший буйными лесами остров, где всегда светло и никогда не заходит солнце. Деревья здесь приносят обильные и вкусные плоды. Всякий булыжник под ногами оказывается драгоценным камнем, а реки готовы напоить тебя пресной водой.
Брендан и его спутники прожили на острове две недели, но после того, как они снова подняли парус, волшебный остров больше никто не видел. И все же остров продолжали упоминать в рассказах и хрониках путешествий: люди по-прежнему фантазировали об этом утопическом месте, до которого однажды смогут добраться. На глобусе Бехайма севернее Земли Святого Брендана показаны четыре направляющихся на запад корабля, символизирующие плавания европейцев по Атлантике во времена Бехайма. При этом рядом с кораблями изображен гиппокамп – сказочное морское чудовище из античных мифов, лошадь с рыбьим хвостом. Гиппокамп тоже плывет на запад: отправившись в дорогу, европейские путешественники вооружились своими представлениями о мире, мифами, легендами и заблуждениями.
Судя по присутствию здесь острова Святого Брендана, глобус отражает не только путешествия самого Бехайма, но и сведения из средневековых и еще более ранних путеводителей: античных трудов Птолемея Александрийского, Плиния и Страбона, более ранних средневековых свидетельств Марко Поло и сэра Джона Мандевиля, подробных навигационных карт-портоланов XV века. Все это – важные источники для мастеров Бехайма.
Сопоставляя часто противоречивую информацию, авторы глобуса продемонстрировали метод, в рамках которого средневековое путешествие предстает мешаниной из старинных преданий и свидетельств очевидцев, соблазнительным набором сведений из фольклора, истории, географии, антропологии, а также слухов.
Путешествие, как правило, подразумевает процесс передачи (в том или ином виде) мирской власти, покорение, реализацию господства. Для Бехайма в краях вроде Японии и Суматры существеннее всего богатства в виде мускатного ореха и перца – дорогих и популярных пряностей, поставляемых через Нюрнберг охочим до наживы купечеством средневековой Европы. По существу, на глобусе подробно объяснено, как пряности, прежде чем попасть в «нашу страну», «меняют несколько владельцев» в «восточной Индии» (Ост-Индии): с мелких островков их вывозят на Яву, затем на Шри-Ланку и земли поблизости, а после в Аден, Каир, Венецию, при этом в ходе перемещения пряностей по миру таможенные сборы увеличиваются в двенадцать раз. Таким образом, это единственный способ связать весь мир цепью производства и торговли. Вполне предсказуемо, что глобус Бехайма евроцентричен и христианоцентричен. Народы Татарии и Азии изображены язычниками, которые поклоняются идолам. Нагие темнокожие правители Африки повелевают, сидя в своих шатрах, а светлокожие, в мантиях, христианские государи Европы располагаются на престолах.
Нам легко высмеять ограниченные познания в географии и ошибочные представления средневекового путешественника. Однако познание мира бесконечно. Сейчас, когда я пишу эти строки, эрозия, наводнения, лесные пожары, урбанизация, землетрясения и вымирание видов неутомимо и неумолимо преображают нашу планету. Реки меняют свое русло, моря высыхают. Мало того, наши мнения о том, какие места важнее и предпочтительнее других, меняются с головокружительной скоростью. Поскольку глобус Бехайма был изготовлен около 1491 года, на нем нет и намека на Америку: на юге Германии о ней еще не знали. Колумб высадился в Новом Свете (вероятно, на Багамских островах) лишь в октябре 1492 года. Как и работы картографов и авторов путеводителей во все времена, труд Бехайма и его мастеров устарел еще прежде, чем был окончен. На глобусе не отражены недавние открытия португальцев в Южной Африке, а спустя всего десять лет на подобной карте можно будет найти Северную и Южную Америку, мыс Доброй Надежды и побережье Индостана, еще дальше на восток – Острова пряностей (Молуккские острова).
Авторов глобуса Бехайма не особенно заботила точность. Они не вполне честны и в том, что касается путешествий самого Бехайма. Из текста на глобусе следует, что Бехайм, командуя в 1484–1485 годах португальской каравеллой, первым нанес на карту основные контуры юга Африки, открыл острова Сан-Томе и Принсипи и проложил путь вокруг мыса Доброй Надежды. (В действительности это сделали задолго до Бехайма.) Глобус умалчивает о сенсационной новости, вызвавшей в Европе большой отклик: мыс Доброй Надежды обогнул в 1488 году Бартоломеу Диаш (ум. 1500).
Глобус вводит зрителя в заблуждение, чтобы подчеркнуть роль Бехайма и его значение как мореплавателя и исследователя, к вящей славе его самого – и Нюрнберга. Любые путевые записки побуждают путешественников смотреть на мир глазами их автора и сообразовывать представления о себе с его поездками.
Да и кому не случалось присочинять о своих доблестях? Кто не приукрашивал, расписывая, какое невероятное место он посетил? Глобус Бехайма по-прежнему пленяет взор: его поверхность испещрена следами многих поколений путешественников, наполнена преданиями, напитана страстью к путешествиям. Его железная ось и деревянные обручи обещают волшебный поворот, что открывает новые миры и противостоит инертности и обыденности.
МОГУ Я РАСПЛАТИТЬСЯ БЛАФФЕРТАМИ?
Монетные системы средневековой Европы сильно разнились. Деньги нередко имели очень ограниченное хождение, в пределах города или княжества, и чеканили их из разных металлов.
В XIII веке широкое распространение получили флорины, затем венецианские дукаты. Стало развиваться международное банковское дело. Большинству путешественников приходилось обменивать деньги в пути – по в высшей степени плавающему курсу.
ОБМЕН ДЕНЕГ НА ПУТИ МЕЖДУ КЕНТЕРБЕРИ И РИМОМ (ОК. 1470)
Сначала следует получить кредитное письмо в лондонском банке Джакопо Медичи. Курс обмена следующий:
9 английских шиллингов = 2 римских дуката.
40 английских шиллингов = 11 рейнских гульденов (Бургундское герцогство).
Деньги обменять можно и в Брюгге: там тоже есть банк.
1 рейнский гульден = 21 голландский плак
1 голландский плак = 24 полушки денаропикколо
1 рейнский гульден = 24 кельнских пфеннига
1 кельнский пфенниг = 12 геллеров
1 богемский дукат = 12 фе (feras)
1 гульден = 21 блафферт (блаппарт, плаппарт)
3 девентерских плака = 5 кельнских пфеннигов
1 медный пенни = 2 полупенни
1 флорин Брюгге = 3 полупенни
1 старый гротен/гроссо = 1/2 гротена плюс полупенни
3 голландских филипсгульдена (Бургундия) = 5 гротенов
1 фламандский стювер = 1 плак 11 пенсов
1 лили-плак = 3 полупенни
1 корте = 2 гротена
1 новый плак = 4 пенса
1 старый плак = 2 пенса
1 стювер = 5 пенсов
6 кельнских пфеннигов = 5 стюверов
6 плаков = 3 стювера (таким образом, 1 стювер = 2 плака)
1 кельнский флорин = 21/2 пфеннига
1 богемский дукат = 3 крейцера = 1 блафферт
1 карлино = 4 безанта
1 папский гротен = 4 болоньино
1 болоньино = 6 фер = 6 катрино
1 дукат = 28 венецианских гротенов/гроссо
Глава 2
В путь – с Беатрисой, Генрихом и Томасом
Ирнхэм. – Лондон. – Английский город Рай (Rye)В 1350 году дама Беатрис Латтрелл (ок. 1307 – ок. 1361) – титул «дама» указывает и на благородное происхождение, и на роль хозяйки поместья: она жила в Ирнхэме, что в Линкольншире, – решила отправиться в дорогу. Дама Беатрис распоряжалась сборами, а служанка Джоан упаковывала вещи. Точнее, так: хозяйка надзирала и наставляла, а служанка передавала ее указания Генри – конюху и слуге, которому еще не исполнилось четырнадцати.
Супруг дамы Беатрис сэр Эндрю (ум. 1390) – он недавно вернулся из Гаскони, где воевал с французами, – несколькими годами ранее унаследовал родовые поместья. Дама Беатрис с детства привыкла выполнять роль хозяйки и вести сытную жизнь. В поместье царило изобилие и вечно пахло жареным поросенком и свежим хлебом. Именно там дама Беатрис пережила эпидемию чумы, которая в очередной раз разразилась в Англии и унесла жизни около трети всего населения. Умирали даже епископы, даже дочь короля. Однако ж большой дом из серого камня на востоке Англии, безмолвно застывший посреди мрачных сырых лесов, был местом безрадостным. Даме Беатрис уже миновало сорок, а детьми она так и не обзавелась. Быть может, поездка в Рим – по оживленным дорогам, через изобилующие разными товарами города, знаменитые святилища и алтари – подарит ей шанс зачать и родить наследника? Она оставит престарелого супруга с его воронами, кроликами, оленями, куропатками и фазанами. Сам сэр Эндрю в отсутствие жены будет упражняться в стрельбе из лука по мишеням, выезжать с соколом и отворять себе кровь, чтобы восстановить равновесие гуморов.
Беатрис и Джоан посылали юного Генри то туда, то сюда и покрикивали на него на смеси английского языка и придворного англо-французского (отчего величали его gareson). Помимо поручений, конюх должен был управиться с обильной поклажей: мешками, сундуками, свертками – и все это забитое под завязку.
В этот раз дама Беатрис собралась в Рим, однако ранее она и ее родные уже совершили несколько паломничеств. Выбор мест для богомолья зависел от того, в чем семья нуждалась на тот момент – и сколько времени имела в своем распоряжении. Иногда, когда у дамы Беатрис болели зубы, она ездила в церковь города Лонг-Саттон (в нескольких часах езды на восток). На тамошнем витраже присутствовал образ святой Аполлонии (которой зубы выбили молотками и вырвали клещами). Дама Беатрис жертвовала святой пенни или два. Посещение святой Аполлонии неизменно помогало. А когда лорд Скруп, отец Беатрис, повредил на турнире руку, семья молилась святому Вильяму Йоркскому (архиепископ XII века; его чудеса хорошо известны, а могила иногда мироточила или источала сладчайший аромат). Благодаря заступничеству святого рука лорда Скрупа зажила, и семья совершила паломничество в Йорк, пожертвовав для гробницы Вильяма восковую модель руки. Недавно почивший Джеффри Латтрелл, свекор Беатрис, оставлял деньги святым образам по всей стране: в Лондоне, Кентербери, Йорке, Уолсингеме и Линкольне – в ходе совершенных им при жизни паломничеств. Дама Беатрис прикрепила к плащу несколько оловянных медальонов, свидетельствующих о других ее поездках на богомолье. На одном медальоне была изображена хижина, это напоминание о посещении Святого дома в Уолсингеме (как говорят, чудесным образом перенесенного из Назарета в Норфолк).

