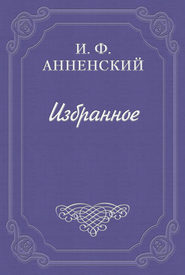 Полная версия
Полная версияСтихотворения Я. П. Полонского как педагогический материал
Хмурые тучи, блуждая по небу в знойный вечер, спорят, и их спор разрешается ударом молнии. Скала отвечает на этот удар, сопровождаемый раскатом грома, протяжным жалобным стоном; и, повинуясь чувству жалости, они смиряются и ложатся у ее ног.
Вспомним также «Влюбленный месяц» прекрасное олицетворение волны в одном из лучших лирических произведений нашего поэта «На закат».
Поразительно художественно изображена Галлюцинация поэта в пьесе «Тишь и Мрак»:
Дымясь, неподвижные звездыВ эфире горят, как смола,И запахом ладана сильноНочная пропитана мгла.И месяц холодный, как будтоМертвец, посреди облаков,Стоит над долиной, покрытойРядами могильных холмов.Дальше картина выдерживается в том же тоне: месяц катится, как будто на нем везут тяжелый гроб; темные тучи висят печальным балдахином, а красные звезды горят, точно свечи повитые крепом; от них распространяется какой то фосфорический дымок, который, расплываясь в черной дали, одевает «Мертвый череп земли».
У греков страх, жалость, война, сон, смерть – все получало в верованиях поэзии человеческие формы. В современной поэзии можно усмотреть подобные же олицетворения: вспомним Красную Смерть Эдгара По, Судьбу в виде старухи у Гейне. У Полонского есть замечательное олицетворение Нищеты, Смерти и гораздо менее удачное – Голода. В последней, XVI главе поэмы «Куклы» являются две мрачные фигуры – Нищета и Смерть.
Нищета – жалкая старуха, которая обращается потом в грязный комочек и катится по дороге. Смерть обрисована страшными, но характерными красками.
У ямы, мелькаяЖелтизной, тень как призрак, стояла —Смерти страшная тень, – то сквозила,То сквозной свой скелет прикрывала.На челе ее венчик, как обруч,Красовался, и кость шевелилась.Едва ли в школе было бы удобно разбирать эту главу «Кукол». Но нельзя налагать безусловного veto на бьющие по нервам сцены. Я думаю, например, что юношам (не детям, конечно) полезно для характеристики средневекового миросозерцания читать баллады вроде биргеровских: они вводят в самый центр, в душу возникающего романтизма, и Шиллер, который, может быть, лучше объяснит, осветит средние века своим «Кубком» или «Перчаткой», никогда не даст до такой степени их почувствовать, как Биргер, Уланд, Саути. Надо только заботиться, чтобы это страшное читалось не для бессмысленного щекотания нервов, а сознательно, как характерное изображение известной ступени народного миросозерцания. Но пойдем далее.
Из сравнения может выясниться сходство, или, наоборот, различие. Различие, противоположность могут не менее сильно влиять на фантазию читателя, чем сходство. На контрастах основываются у поэтов часто сильнейшие эффекты. У нашего величайшего поэтического наставника, Пушкина, на системе контрастов построены порой чудные картины.
Внимательно прочитав, например, описание Полтавского боя, мы найдем, что это волнообразная линия из контрастов, из вечных противопоставлений покоя и движения, света и тьмы, мерности и стремительного натиска, торжества и уныния, победы и смерти. Контраст в поэзии может иметь множество различных оттенков и он может быть конкретный в отвлеченный, частный и полный; может давать в результате идею гармонии (как, напр., в «Торжестве победителей» Шиллера) и разлада (как часто у Лермонтова).
Вот образцы контрастов у нашего поэта в изображении сфинкса:
Когтисто-злой, как лев,Как дева – трепетный и лживо-сладко-гласный.Замечательное стихотворение «Корабль пошел на встречу темной ночи…» все построено на контрасте впечатлений поэта, когда он смотрит на небо и потом на волны: сначала ему кажется, что Плеяды зажигают ему вечные лампады и обещают покой бессмертия. А внизу, в пучине Наяды роют ему могилу на глубоком и темном дне и тоже обещают «забвения покой». Контраст увеличивается от этой одинаковой нотки в обещаниях наяд и плеяд.
Контраст может быть выражен и очень коротко:
Ледяное сердце будетК сердцу пламенному льнуть.Меж темных волнИ золотой предрассветною звездой.Как живописец комбинирует в своих картинах краски, так и поэт образует из них словами красивые сочетания. Припомним пушкинское:
Грудь белая под желтым жемчугомРумянилась…Меж нив златых и пажитей зеленыхОно, синея стелется широко.Или у Фета:
В дымных тучках пурпур розы,Отблеск янтаря.У Полонского мы видим прелестные сочетания:
И не заметили они моихЗеленых кос, когда мой синий глазСверкал…Меж темных волн и золотойПредрассветною звездойЛожится розовая мгла.Бледно-розовый коралл.(при луне)Сизые с золотом тучи.Озарил румяным блескомСеребро своих седин.Темный вал морской,Кой-где у бледно-золотойЗари заимствуя отлив.Бледно-зеленые подводных нити травДа белые кувшинки, да стадаЗолотоперых, вольных рыбок.Жаркий май с золотыми кудрямиЕй дарит диадему из роз.Эпитеты у Полонского встречаются в большом количестве: по большей части они характеризуют внешнюю, особенно световую сторону предмета. Кажется, что поэт наиболее любит эти световые оттенки, игру красок: ясные звезды, бледно-серебряное одеянье, прозрачно-синяя темнота, янтарные соты, красный месяц, красные звезды, седые скалы, золотая заря, бледный луч, бледно-мраморный лик, бледно-розовый коралл, золотой мед, белизна (жемчужная, матовая, снежная), лиловая мгла, лиловые тени скал, бледно-золотая заря, синие волны, голубой туман, знойно-серые скалы, зеленые змеи, бабочки, бледно-зеленые нити.
Пристрастие к цветовым эпитетам заставило поэта два раза допустить смелый эпитет розовая улыбка (усмешка). Очень красивыми кажутся мне следующие эпитеты: искристое мерцанье, летучий локон, бледно-серебряное одеянье, скачущая пена, чешуистая зыбь, заревые облака. Тифлис хорошо характеризуется эпитетами знойно-каменный много балконный, Зари роскошный холод – живописный эпитет. По внешней форме, у Полонского большое пристрастие к эпитетам сложным. Он не стесняется даже образовать такие сочетания как зелено-золотой (отлив), лживо-сладкогласный (см. пример выше).
Это замечается и в отвлеченных эпитетах: загадочно-опасный, спокойно-зоркий, жидовско-римский, загадочно-простой и т. д.
Некоторые неологизмы вроде сложных слов шелкомотальный, пленно-продавец не могут назваться удачными.
Вторая особенность эпитетов у Полонского, это обнаруженное здесь пристрастие к причастным формам: соблазняющие глаза, вечереющий блеск, душу гнетущая мгла.
Но особенно много их в «Молитве» (в ущерб, как мне кажется, красоте, и гармонии), напр.:
И цепенеющую,В лени коснеющуюЖизнь разбуди на святую борьбу.Иногда эти эпитеты очень хороши, напр. сверкающая тишина, скачущая пена (см. выше), напухающие очи с накипевшею слезой. Морозной мглы сверкающие иглы. При мерцающей луне.
Изредка у Полонского встречается неумеренное пользование эпитетами, которые накопляются неживописной и беспорядочной группой.
Выбейте костлявое.Чудище мозглявое,Хриплое, увечноеИ бесчеловечное.Этими замечаниями и покончим мы разбор живописной стороны поэтического языка Полонского. Мы, конечно, далеко не исчерпали его красоты, его значения – целью было только наметить не бесполезные для школы данные об этом предмете и способ пользования ими, для развития в детях хорошей речи и вкуса к поэтическим красотам.
Нам остается сказать несколько слов о музыкальной стороне поэзии Полонского. Он много дал в смысле разнообразия и музыкальности размера – я говорю, конечно, о лирике. Рифмованные стихи встречаются у него чаще белых. Из белых стихов я уже упоминал «Ночь в горах Шотландии». Замечательно также «Мраморное сердце». Его структура напоминает фетовские «Вечера и ночи» с их короткими, как бы набросанными стихами. Рифмой Полонский владеет виртуозно и временами, кажется, ею злоупотребляет; напр., ставить рифму на четвертом слоге от конца строки, это – до некоторой степени играть рифмой. Мы находим пример в стихотворении «Старая няня»:
Непричесанная,Не отесанная…Сон мой спутывался.Я закутывался.Рифма получает характер чего-то искусственного и лишает чтение легкости и свободы. Тоже находим и в «Молитве».
Дай силу страждущемуРазуму жаждущему.Нельзя не отметить в стихах Полонского не всегда удачных refrains.
Например, в хорошенькой пьесе «На пути из гостей» на конце каждого куплета повторяется две строки:
Боже мой! Боже мой!Поздно приду я домой.Прочитать первую строку анапестом невозможно, потому что все стихотворение построено на дактилях, а прочитать дактилем Боже мой, – не будет рифмы.
Странен также и некрасив припев: О эллада, эллада! в пьесе «Статуя».
Совершенно незаконным, по крайней мере не обычным, кажется мне (в маленькой пьеске, ст. 16, 1-го т. Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! Смотри.) рифмованный гекзаметр с пресеченной мужской рифмой.
Стихи с мужской рифмой, по-видимому, особенно любимы нашим поэтом: Келиот весь написан 4-стопным ямбом с мужскими рифмами. В «Закавказье» есть длинные пьесы с пятистопными мужскими стихами («Заступница»). Сплошные мужские рифмы очень красивы в стихотворениях: «Ночь – Отчего я люблю тебя, светлая ночь?», написанном четырехстопным анапестом; в «Зимнем пути» и особенно в «Агбаре» – эта последняя пьеса очень выдержана: двухстрочные куплеты придают ей эпический балладный склад и тон, несколько резкий, обрывистый, но мужественный.
Говорить о словаре Я. П. Полонского, о его неологизмах мне не придется много. Вопросы словарные трудны, специальны и могут завести нас далеко. Я буду считать в настоящем случае свою задачу исполненной, если мне удастся указать на несколько характерных черт предмета, преимущественно со стороны отрицательной, потому что заслуги нашего поэта, как мастера слова, легко оценятся всеми, кто прочитает его стихи. Прежде всего, наш поэт злоупотребляет причастными формами, как я указывал уже и выше. В нашей народной речи чаще употребляются деепричастия, а формы членные или причастные являются в форме прилагательных, преимущественно:
Выше дерева стоячаго,Чуть пониже облака ходячаго.Доставай ты татарина мерзлаго.Наши церковно-славянские причастия на щий и мый чужды духу народной речи. Замечательно, что Пушкин очень редко прибегает к этим причастным формам. Затем, пользование уменьшительными словами, этой силой русского языка (в которой он из всех европейских языков, может быть, уступает одному итальянскому) – у Полонского не всегда, как мне кажется, равно удачно.
Например, рассказ ведется в торжественном тоне (в Келиоте) и вдруг уменьшительные слова – диссонансом:
Да знакомМне с детства был тот бережокТот густо-лиственный лесок (?)Или изображается сила, страсть, и она приписывается предмету, отмеченному уменьшительным именем:
И вотИз-за басов, как бы смычок,Волшебный женский голосокСтыдливо, робко, нежа слухДрожит и тянется, и вдруг.Могучий страстный, молодойВсе покрывает.Как будто вещим ветеркомНа них повеяла гроза.Любит наш поэт, между прочим, слово конек (в смысле лошади). Он употребляет его и в прямом смысле! (в «Ми-ми»), и в переносном (Железный конек. На железной дороге). В народной речи и поэзии это слово очень редко. Ершовский конек-горбунок – деланное выражение.
К числу неотделанных, неточных черт в языке Полонского надо еще отметить случайные архаизмы в несоответствующей обстановке:
Неукротимый сей нахалНи велемудрый капитан.Ему сочувственных славянСих допотопных христиан.Мои замечания кончены. Общие выводы о поэзии Я. П. Полонского я позволю себе сделать в одной из ближайших статей, сопоставив его с современными ему и родственными по духу поэтами – Майковым и Фетом.

