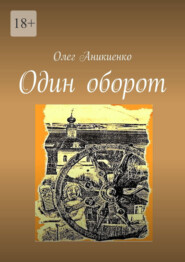скачать книгу бесплатно
Провинциальный фотоклуб «Дружба» сохранил свое название от советских времен. Небольшая комната, завешенная зелеными рыбацкими сетями. Среди грузил и поплавков в сетях, словно рыбы, плавали фотографии. Сети, по версии руководителя клуба, – символизировали удачу фотографа, поймавшего глубинные кадры жизни.
По правде, не такие они и друзья. Гонора у всех хватает. Выделялись пять – шесть «зубров» местной фотографии. Они выставлялись в городских холлах. Начинающие – помалкивали и впитывали сентенции в надежде найти свой стиль.
Ох, уж этот «авторский голос»! Все помешались на нем. Даже если нет ничего на снимке, – все отчаянно доказывали свои теории.
У Саши Бачева – одни углы домов, подъезды. Там туманней, здесь светлей… «Поток фотографического сознания». Выражение внутреннего «я», колодец подсознания…
Зиновий и Сидорук – щелкали все подряд, но в русле историко – ассоциативной фотографии. Свидетельства для потомков.
Марк выставлял помятые жестяные банки, фиксируя светом каждый излом. Это – конструктивный сюрреализм.
Даже Нюша из Баклушей, пигалица, а фотки ее – «экзистенциальные»!
Возьмет баллончик и рыскает в поисках подходящих стен. Чтобы с фактурой… Затем прыскает надписи – «Ничего нового, существовал». Или – «Хруст сухарика оглушил…»
Всех развлекал Вандовский. Помнится, прыгал на клубном «пивасике». Бегал с аппаратом без пленки: – «Кому сделать кадр? Без пленки! Ему подыгрывали… Гениально! Вандовский возглавлял «новую волну». Извергал идеи. То он сделает серию «У унитаза», с синими, как у цыпленка, ногами. То – вставит в трусы огурец, на лоб – очки сварщика… «Фотография должна быть мерзкой!»
Ну, а ее направление? Честно говоря, стеснялась своих работ. Ведь на фотках была ее Настя, ее девочка…
Сладко и больно показывать дочку чужим глазам, возможно, недобрым. Она снимала рядовым аппаратом, без всяких ухищрений. Настена скакала, сидела на горшке, играла в куклы, как обыкновенный ребенок. Потому и фотографии в клубе встречали одобрительным «ммм…» и – забывали о них. Всем хотелось спорить, отстаивать взгляды о «незаданном вопросе» фотографии.
В клубе выключен свет. Горит лишь красный фонарь для домашней печати. Тот самый фонарь, который создавал особую атмосферу в затемненных кухнях панельных домов. Эпоха советских фотолюбителей. На столе такой же старый фотоувеличитель. Рядом – фото-бачок, реактивы в банках, ванночки с пинцетом. Над головой фотопленки с прищепками. Помните? Субботняя ночь, тишина, дети спят… Муж придерживает пальцами фотобумагу, жена отводит стеклышко увеличителя, наводит резкость. Один – два – три… десять! Смотри! Смотри! Проявилось…
Махоня сидит за столом, отсвечивая лысиной в свете фонаря. Перед ним, темнеют в полумраке силуэты фотографов.
Вопрос: – Андрей! Как вы нашли свой стиль?
Ответ: – Да, мы любим об этом. Но я старый фотограф, могу в двух словах. Так получилось. С одной стороны – свойство характера. По сути, я одиночка, исследователь предметов… С другой стороны – условия становления. Я из богатой семьи. Уже в 14 лет у меня была камера. Я – аналитик, формалист, но с примесью метафизики…
Вопрос: – У вас мировая известность. В каких галереях висят ваши фото? Ответ: – Висят… Но я не хочу поучать. Я – не газетчик. Для меня важен не момент. Я исследую состояние момента. А те, что висят… Будут ли они там долго?
Вопрос: – Вас всегда понимает зритель? Как вы относитесь к критике? Ответ: – Со зрителем сложней. Многие не въезжают… Нужно время, чтобы привыкнуть к моим работам. Заметьте, я не сказал – «понять». Я не вкладываю в фотографию литературный смысл. Поэтому – привыкнуть и принять.
Вопрос: – Ваши натюрморты сложны…
Ответ: – Да. Предметы те же… бытовой мир одушевлен…
утрачивая цельность, обретает новые качества…
Махоня ушел в размышления. Казалось, ему неинтересно отвечать на вопросы. Ему хотелось говорить о тайнах фотографии.
– Теперь я спрошу… Считается, фотография копирует окружающую реальность независимо от человека (фотографа). Замечаю, однако, – объект предстает перед нами не сам по себе, а каков он в субъективном восприятии… Творец ли фотохудожник или фиксатор? Чувствует ли, слышит нас природа? Отвечает ли нам? Какова степень влияния? Ребята пытались формулировать. По сути, речь шла о возможном воздействии сознания фотографа на его натуру. А значит и на саму реальность…
Они шли по вечернему городу. Было тихо, свежо. Махоня наслаждался свободным тротуаром, по которому проходили редкие прохожие. Она хотела показать ему свои фото.
Словно опытный картежник, Махоня мгновенно пролистал снимки. – Знаешь, – медленно начал он. – Людям кажется, я – пахан фотографии. Это – внешне. Откроюсь, – я боюсь. Туда ли шел? Порой охватывает страх, – умру, и все забудут. И выбросят мои блики, что важнее предметов. И те нюансы, что важнее людей… Возможно, мой путь – боковой. Как неглавная ветвь на древе жизни. Ослабел я… Все больше стараюсь схитрить… Она не ожидала такого. Ей стало жаль мастера. Ведь он вложился весь в свою работу. Ни детей, ни семьи…
– Пробить систему трудно. – продолжал он. – А те, кто пробились – болтуны. Всюду – говорильня… Друг у друга воруем. Научись трепаться: визуальное заявление – паттерн – манифестация… Сартр – Кьеркегор – трансцендент… Вертикальный канал – аудентизм…
На твоих снимках – дочь. И только. Много ошибок – в пространстве, композиции. Нет глубины, лишние аксессуары. Но главное – слишком личностно. Сделай образ. Нарочито усложни. Словно – исследуешь себя. Это ты пускаешь пузырь, пляшешь, гладишь кота… Что тебя ждет в будущем? Кем станешь? Увеличь формат, убери цвет, раствори тень над головой…
Он посмотрел на нее своим «человечьим» глазом.
– Может, зайдешь? Я помогу с фотографиями. Выставишь в музее… И она поднялась к нему в номер.
Прошла зима. Потекло с крыш.
Махоня не обманул. Через месяц она получила свои фотографии. Те несколько снимков, что доверила на обработку. И огромные, как ей показалось, портреты, которые получились из ее наивных фоток. Безумно красивые работы. Техническое совершенство… Божественная фотозаумь… А через год узнали, – Махоня умер. В лаборатории. Инфаркт. Еще через год распался их фотоклуб. Зиновий женился на молодой, отошел от творчества. Вандовский рванул в столицу.
Несколько маленьких фотографий с Настеной она разместила на своей страничке в социальных сетях. Красивые полотна спрятала в кладовку. «Подарю на совершеннолетие» – решила она. «Будет уместно. Жизнь летит так быстро. Не заметишь, как станешь фотографировать внуков…»
Поэты
Вечером позвонил Кумов. Фальшиво извиняясь, просил подежурить у гроба поэта Абасова. Так мол и так, – обычай, бдение у тела, и кто проводит поэта, если не творческие…
Конечно, я не хотел. Только сдал смену, а тут – переться в пригород по морозу. К тому же, я не знал покойника лично. Ну, приеду, люди будут коситься, кто такой, зачем? Но Кумов печатал мои стихи в своем альманахе и пришлось соглашаться. Чертова зависимость!
В автобусе я старался расслабиться. Болела спина, и я вертелся в поисках удачной позы. Дорога вела к поселку на окраине, где жил старый поэт. Я не был у него раньше, не довелось. Но знал, что туда приезжали местные искатели литературной славы, пили водку, дарили свои опусы и получали напутствия с автографом.
Уже стемнело. Мы выехали за город, миновали кладбище с крестами, чернеющими из-под снега, проехали по мосту над скованной льдом рекой. Потом потянулись заснеженные луга с деревянными электростолбами. И до поселка – только лес, запорошенный сугробами.
Я размышлял о судьбе поэта, которого уважал и чьи редкие статьи читал в местной прессе. Абасов приехал в наш городок уже зрелым автором. Работал в поселке на лесопилке, изредка печатал свои стихи. Его рубленые строки узнавались. Он писал о рабочих: рыбаках, лесорубах, водителях. Воспевал мужской труд, честность. Считал, в поэзии – главное быть личностью, а стиль создавать судьбой.
«…Работать, петь среди людей…
Не трястись над деньгой и талантом…»
И все же, известность ему принесли не стихи, хотя и крепкие. Абасов был евреем и приехал к нам из Москвы. Приехал сам, в холодный комариный край простым рабочим. Здесь и женился, срубил себе избу. И что у него там случилось, в столице, никто не узнал. Хоть и пил поэт со многими любителями чужих тайн…
Перед пенсией захотел писать прозу. Но перестроиться на литературный труд уже не смог. Так и остался на газетном фото – грузный, седой, с топором в руках и взором упрямца. Лишь к старости устроился в библиотеку. Но стихи его оставались простыми и грубоватыми по форме, без излишних рефлексий. Впрочем, мне в его творчестве недоставало как раз философии.
Перед его кончиной местные подхалимы пытались сделать из него «большого» поэта. Хвалили в газетах, набивались в друзья. Записали «для веса» в литературные диссиденты. Приезжал к нему перед выборами и будущий губернатор с телевизионщиками. Слепили слащавый сюжет. Но Абасов остался честен до конца. Он понимал свой уровень и призывал к трезвой самооценке и других.
В автобусе Кумов что – то царапал в блокнотик, наверно, готовил траурную речь. Он ценил окололитературные отношения. Старался ни с кем не ссориться, вязко плел свои сети. Любил покровительствовать начинающим и лебезил перед стариками. Но даже здесь, без зрителей, на лице его застыла маска добытчика поэтического признания.
Подъехали к поселку. Этот окраинный район имел свою историю. С начала отечественной войны сюда депортировали сотню советских немцев как потенциальных вредителей. Заселили в холодный барак, построили небольшой судоремонтный заводик. Но немцы работали хорошо. И со временем им разрешили построить домишки. Так появилась немецкая слобода, отличающаяся ровными рядами изб и хозяйственных построек.
Мы подошли к одноэтажному административному зданию. Здесь, в холле музыкальной школы и ожидалась так называемая смятенная ночь у гроба покойного.
Абасов лежал спокойно, как и положено почившему. Все было как на обычных похоронах. Открытый гроб на двух табуретках, бумажные цветы, сладковатый запах хвои. Покойник – бледный, с посиневшими костяшками пальцев, заострившийся нос. Было трудно узнать в нем рыкающего льва в тельняшке. Рядом, в соседней комнатушке виднелся длинный стол с хаосом стаканов и вилок, – корки хлеба, пирожки, консервы… За столом сидели два раздолбая. Они курили и громко разговаривали, почти кричали.
– О, стихоплеты! Водка есть?
– Без закуски, – елейно молвил Кумов.
Тот, кто повыше ростом, – местный корреспондент, освещал культурные события. Свои седые волосы стягивал на затылке в косичку. Да еще косил на левый глаз. Странный тип. Похож на долговязого волка из мультиков. Другой, что помельче, болтун в дурацкой панамке. Пожелтевшая дряблая кожа, небрит. Художник!
– Я – Митяйкин! А Сашок – ушел… Оставил нас. С кем пить? Митяйкин считал себя элитарным философом кисти. Картина его висела здесь же, называясь, – «Осень поэтов». На ней, в осенней кутерьме падающих листьев угадывались три фигуры. Седогривый Абасов со стаканом вина поднимал тост. Напротив, через плоскость застолья, сидел другой городской поэт, Шмонов, тоже со стаканом. Шмонов был алкашом и отсидел срок за изнасилование. Третьим, летающим в разноцветных облаках – угадывался образ белокурого Есенина. У небесного синеглазого поэта стакан выпал из рук, порхая вместе с листьями.
Я решил обойти стол и сесть так, чтобы не видеть картину. Вероятно, отвлекся. Потому что в следующий момент Митяйкин уже стоял рядом с покойником.
– Вставай, Сашок…
Алкаш в панамке, покачиваясь, держался за край гроба. Сквозь дверной проем ситуация наблюдалась. Было видно, как художник зачем-то раскачивал гроб. Еще немного и тело могло вывалиться на пол. Мы вскочили на помощь. Внезапно Митяйкин вцепился в длинный нос Абасова. – Вста – авай… Залежался-я!
Голова Абасова металась по сторонам… Мы бросились разнимать бывших друзей. Писака с косичкой сверкал косым глазом и ржал, как Мефистофель. Мы взялись поправлять табуретки под гробом.
Вспоминая ту ночь, я забыл, кто приехал сменить нас с Кумовым. Кажется, – Попков и Цыпин, два городских рифмотворца. Звали их обидно – «двое из ларца» или «Добчинский и Бобчинский», хотя, конечно, многих из нас обзывали в детстве.
Но похожего у этой парочки было немало. Оба лелеяли православие, ходили в церковь, постились и писали христианскую патоку. Попков руководил местным союзом стихотворцев, издавал свои унылые сборники. Цыпин вел поэт-обзор на радио, хотя обладал нелепой, хлебающей дикцией. Так же, их объединяло общее горевание. У Попкова супруга спилась и замерзла пьяной на улице. Любитель Пегаса опоэтизировал свое горе и возвел его в ранг небесных испытаний.
У Цыпина жена лучше б умерла. Она изменяла ему с приятелями, неверующими, и открыто смеялась над мужем. А потом вовсе ушла от «хиляка – поэта». И все в городе, кто писал стихи, знали об этом. Но Цыпин по – христиански отпустил свою «кармен». И даже написал поэму «Моя прощенная мадонна».
Я не верил обоим. Сейчас они манерно сидели у края стола и, конечно, не пили. Кто их позвал сюда? Они тихо разговаривали, поглядывая на часы. Попков, сделав брови домиком, скорбя о том, как много пишут плохих стихов. И как этот поэтический мусор отравляет ему жизнь. Он – страдает!
Цыпин, тот еще теоретик, вздыхая, поддакивал.
– Беда, коль сапоги тачает не сапожник… Как много непрофессионалов сейчас в политике, поэзии, искусстве…
Мне стало противно.
– Надеюсь, – нудил Попков, – кивая в сторону гроба – душа его перед кончиной принесла достойных плодов покаяния…
– Абасов – мастер, – вторил Цыпин. – Хотя другая школа.. Характер неуемный… Манера суровая, ассонансы, разорванный ритм… Я в поэзии – лишь буквоед. Лишь сверчок…
– А наша панихида за усопших, – это исправление собственной жизни. Пожелаем душе его мира и согласия…
– Да не верил он! – возопил протрезвевший Митяйкин. – И попов не любил! Шли бы вы, Ганс и Бульдерстен…
– И, правда, пора… – засобирались эти двое. Тогда я вспомнил, что у Кафки в его «Замке» была тоже парочка подобных персонажей, Артур и Иеремия…
И тут случилось неожиданное.
Внезапно в дверь из холодной ночи, словно черт из преисподней, ввалилась черная фигура. То был Кочегар Апокалипсиса. Закопченое лицо с красными от дыма глазами. Рваная телогрейка, белеющий оскал зубов… Паша Гомон! От него несло резиной, – видно палил шины.
Он едва удержал стакан в окоченевших пальцах.
– Пять цепей порвали! Все топоры, лопаты… Вырыли!
Гомон копал с местными мужиками могилу. Организовывал, наливал, рвал жилы. И прежде, чем копать лопатами, пришлось пилить бензопилой грунт. Но Паша любил экстрим. Он был – мачо, самый крутой писатель из молодых.
Гомон писал рассказы о настоящих мужиках, людей поступка, но с некой тюремной приправой. Его герои – это новые робин – гуды, справедливые киллеры. Или голливудские охотники, бьющие в тайге медведя. Пел шансон с характерными завываниями. Себя называл «улучшателем местного генофонда». Носил перстень с печаткой, затемненные очки. В своих песнях воспевал новою Россию, с ее золотыми куполами, а также Белую гвардию… Сравнивал зеков, которые за маму глотку порвут, с теми, кто попадал в плен, в Гулаг.
Ему принесли гитару, но пальцы не слушались. Тогда, как Паганини без струн, он запел свою авторскую, направляя вибрации в сторону гроба. Он пел гнусаво «Прощай, братан». Все ждали, когда он закончит.
Давай, братан, тихонечко уйдем,
Пускай живут, они нам не нужны.
Тот фраерок свое перо найдет,
На темной стороне другой Луны…
Я думал о будущем Павла Гомона. О том Паше, который считал себя лидером и выступал в местной газете. Он возносил новых русских и новые возможности. Сам не прошел зону, но болел за всех кандальных самородков… Сочинял роман о воровском авторитете, набирающем вес в современной жизни.
Что ожидало его? Будет ли он торговать лесом, если осилит рыночную науку? Или состарится и будет петь в баньках для «солидных людей» свой низкопробный шансон?
Отпев свой номер, Гомон прилег в углу прямо на пол. Отдыхай, Паша. Ты честно вырыл яму поэту. Широкую…. Не любил тесноты Абасов. А ты – успеешь еще попеть и попить…
Мало – помалу, и нас разморило в тепле. Все уже клевали носом, и, прислонившись к стене, я тоже ушел в дремоту. Сон охватил сознание… Я оказался на кладбище перед ямой, готовой принять покойного. Вокруг тихо переговаривались. В гробу лежал Абасов, держа в руках плакатик со странной надписью – «Землемер К.» Подошли ближе Попков и Цыпин. Как? – подумал я – Вернулись? Не узнаю… Кто вы? – Ваши помощники, – отвечают. – А где инструменты? – Их нет… Тут Кумов, как всем показалось, стал заканчивать траурную речь. Пар струился из его быстрого, ловкого рта: «…Один из крупнейших поэтов России… Благословил меня, молодого… Родник с неиссякаемой влагой для души… Для меня… Мне…» – Да что тебе надо? – непонятно вдруг закричал Митяйкин.
И сон прервался. В комнату ввалилась новая смена, и не двое поэтов, как ожидалось, а целых три. Приехали на такси ночью. Всех привезла Митрошина. Великая русская поэтесса, как ее называли услужливые СМИ.
Сейчас, когда я характеризую входящих, может казаться, что пишет завистник. Возможно, Митрошина – хорошая мать, воспитала дочь, растит внуков. А Подлузин, к примеру, поливает цветы на своем подоконнике и выгуливает таксу. Не знаю. Речь идет об искусстве, о поэтическом стиле и манере добиваться признания…
Митрошина – бывший газетный работник, баба лет пятидесяти пяти, крупная, ростом под метр девяносто. Ее боялись даже мужики, могла и в морду двинуть. Шея у нее конская, характер необузданный. Конечно, она писала не о любви. А о матери – России! То были крепкие, плакатные стихи. И очень правильные.
Тебе пою, о русский мой народ,
Тебе мой громкий глас под небесами…
Мы – русские! И с нами шутки плохи…
И с нами Божья воля, Божья матерь…
Такие стихи, сколоченные мощными эмоциональными гвоздями, были картой беспроигрышной. К тому же, Митрошина обладала пробивной силой. Сама врывалась в редакции, декламировала басом, стучала кулаком по столу… Подлузин – маленький, надутый тип, с пупырчатой кожей и лиловым носом. Вкупе с характером, напоминал болотную жабу. Жуткий интриган и льстец. Везде, где мог, воспевал Митрошину. И тоже писал о Руси. Но выбрал лубочную деревню:
Речка вербная и калинная,
Берег вышит льняною скатерью,
Протекает тут Русь былинная
И любимая Божьей Матерью…
Чтобы вышло похитрей, нашпиговал свои вирши замысловатыми терминами: «горлица, ветряки, жнивье, зажинки, пяльцы, сажалки, криница, росстань, разговелись…» Позлузин был вреднейшим поэтом, каких я знал. Искусснейший эпигон, он омертвлял поэзию изнутри, но понять это было непросто. Он выходил на сцену, потный, мерзкий и старательно читал:
…Вина пить с Боянами, от любови пьяными,
кутаясь в усмешечку, целовать потешечку…
Митрошина и Позлузин рьяно защищали друг друга, заказывали о себе хвалебные статьи, штамповали сборники…
Сейчас «Матрена» устроилась за столом, ахнула полстакана водки. – Как твой проект «Екатерина»? – вопросила журналиста с косичкой. – Читала, пробиваешь идею памятника в нашем ауле?
– Не памятник, только – бюст. Да и тот не пускает мэрия… – оживился писатель.
– Что так? Помочь?