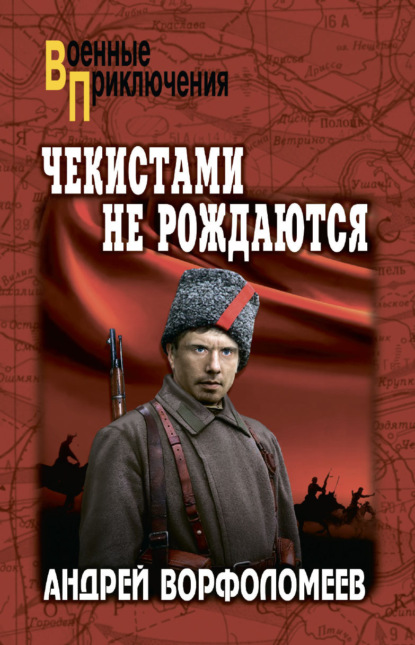
Полная версия:
Чекистами не рождаются
– Умно, – пробравшись сквозь заросли кустарника, констатировал «коммерсант». – Незамеченным не подойдешь. Часового они ставят?
– Раньше ставили, теперь – нет.
– Понятно. От безнаказанности обнаглели.
– Похоже на то. Дверь только на запоре держат.
– А вы откуда знаете?
– Так это… Мы же им провизию носим.
– Сами?! Добровольно?!
– А как иначе? Не ждать же, пока анчихристы в хутор нагрянут! Нам и первого раза за глаза хватило! Не только по погребам, но и по избам не ровен час шарится начнут! А то и баб с девками уводить станут. Во исполнение «Декрета»!
– Ну вы даете! Ладно. Лирику оставим. Не для того мы сюда пришли. Последний вопрос. Дверь в избе куда открывается?
– Вовнутрь.
– Плохо. Снаружи не подопрешь.
Облазив опушку, Лев наметил удобные позиции и расставил там мужиков с винтовками.
– Вот что, ребята. Валите всех, кто из окон выскакивать станет. Паспорта и фамилии спрашивать не будем!
Сам он, в компании с Никифором, решительно направился к двери избушки. Никто, похоже, их появления не заметил. Анархистам, очевидно, было не до того. Изнутри доносился глухой гомон голосов, то и дело прерываемый матом и пьяными выкриками. Подобравшись к порогу, Лев приготовил пистолет и сделал знак Никифору. Тот робко постучал в дверь.
– Кто? – раздался в ответ хриплый пропитой голос.
– Не пужайтесь, товарищи. Это я – Никифор. Огурчиков принес да молочка. Ну и бутылочку, само собой! Куда ж без неё!
– Щас открою. Погоди!
Раздался грохот отодвигаемого засова – и на пороге показался взъерошенный верзила в кожаной куртке. Решительно отпихнув Никифора в сторону, Лев уложил анархиста одним выстрелом, а затем, швырнув внутрь избы, одну за другой, обе лимонки, вновь захлопнул дверь. После чего с криком «Ложись!» кинулся на землю. Рядом, обхватив голову руками, плюхнулся на живот Никифор. В избе тем временем ахнули два оглушительных взрыва. Тотчас вскочив, Лев ударом ноги распахнул дверь и ворвался внутрь. Там, в ещё не успевших рассеяться клубах порохового и табачного дыма, царила картина полного разгрома. Перевернутый стол и лавки, истекающие кровью и хрипящие люди. Перемещаясь от одного к другому, Лев хладнокровно достреливал раненых. Под подошвами сапог хрустели осколки разбитых четвертей самогона, стаканов, крынок, мисок, вареные и ещё не очищенные от скорлупы яйца, соленые огурцы, квашеная капуста.
Когда все было кончено, он украдкой выглянул из дверного проема и позвал:
– Никифор, а Никифор.
– Чего, ваше благородие?
– Ступай, своих предупреди, что опасность миновала. А то ещё не ровен час меня на радостях положат.
– Слушаюсь!
Пока Никифор бегал за мужиками, Лев внимательно осмотрел оставшееся после анархистов оружие. Тут тоже попадались серьезные машинки. Вплоть до угловатых «маузеров» модели C96 с пристегивающейся деревянной кобурой. Не чета его карманному пистолету! Но и разведчику таскать подобную бандуру явно не с руки. С сожалением отложив трофеи в сторону, Лев вышел на свежий воздух. У порога уже переминались с ноги на ногу давешние мужики.
– Ваше благородие, а оружие ты куда девать будешь? С собой заберешь?
– На черта оно мне сдалось! Что я им, торговать буду? Можете забирать. Только, чур, баш на баш! Я вам «маузеры» и «наганы», а вы мне продукты! Ну и деньжат, если подкинете, неплохо будет. Но не керенки!
– Обижаете, господин хороший! Полновесные червонцы! Для хорошего человека ничего не жалко!
4
Обратно линию фронта Лев перешел с превеликим трудом. Отступавшие красные войска докатились уже до Казани. Потом сдали и её. Вот посреди этой неразберихи «Студент» и очутился 8 августа на железнодорожной станции Красная Горка, где верховодил партийный деятель Валерий Межлаук.
– Скорее! Скорее! – взывал он. – Белые хотят захватить мост через Волгу. Если позволить им это сделать, то будет открыта дорога на Москву и Нижний! Ни шагу назад!
В качестве основной ударной силы в наспех готовившемся контрударе должен был выступить только-только прибывший на станцию особый коммунистический отряд. Эшелон с добровольцами, не выгружая, отправили вперед. Лев только и успел забраться в ближайшую теплушку. Проехав с полверсты, поезд загрохотал по железнодорожному мосту через Волгу. О нем, собственно, и шла речь.
На левом берегу реки паровоз начал замедлять ход, однако бойцы коммунистического отряда, в основном – московские рабочие, принялись прыгать из вагонов, не дожидаясь полной остановки. Следом на насыпь полетели пулеметы и патронные ящики. Собравшись в полном составе, отряд чуть ли не бегом устремился на звуки раздававшейся неподалеку стрельбы. Слева виднелся лес, справа была Волга.
Вскоре впереди появились бегущие группами и поодиночке люди. Коммунистический отряд тотчас залег, однако тревога оказалась ложной. То были бегущие под натиском противника красноармейцы.
– Чехи!!! – раздавались отовсюду панические вопли.
Остановить это зараженное паникой человеческое стадо не представлялось возможным. Да и вряд ли от таких «вояк» был хоть какой-либо толк.
Противник тоже не заставил себя ждать. Пройдя ещё шагов триста, добровольцы-коммунисты заметили среди деревьев в лесу первые чешские мундиры. Никакого отпора те явно не ожидали. После разгрома красных в Казани взятие какого-то моста, очевидно, представлялось чехам не более, чем легкой прогулкой. Тем сокрушительнее оказался полученный ими отпор.
Подпустив врага поближе, коммунисты дали первый залп, собравший обильную кровавую жатву в рядах наступающих чехословаков. Впрочем, ещё сильнее оказался психологический эффект. Никак не ждавшие сопротивления от, казалось, вконец деморализованных красных, белые попятились и побежали. В качестве трофеев коммунистическому отряду досталась полевая батарея, вместе с полевой кухней. Так была образована Левобережная группа войск под командованием латышского военспеца Яна Юдина.
Потянулись дни недолгого затишья. Красноармейцы накапливали силы и приходили в себя. Последнему в немалой степени содействовала и кровавая деятельность грозного «демона революции» Льва Троцкого. Прибыв на персональном поезде в близлежащий Свияжск, недавно назначенный наркомвоенмор, сразу же принялся наводить порядок. А мера для укрепления пошатнувшейся дисциплины у него была только одна – расстрел. Да не простой, а массовый. Так, в отступившем под натиском каппелевцев 2-м номерном Петроградском полку был расстрелян каждый десятый! И это не считая командира и комиссара!
В Левобережной группе тоже занялись наведением дисциплины. Пусть и не такими жуткими методами. Впрочем, без крутых мер не обходилось и здесь. А как иначе, если, к примеру, занимавший позиции слева от коммунистического отряда Брянский «полк» полностью разложился? Бойцы играли в карты, караульную службу никто не нес. Пришлось прибегнуть к силе оружия. Это потом, для доверчивого потомства, были сочинены благостные сказочки о красноречивых большевистских агитаторах. В таких условиях любые, даже самые пламенные слова бессильны. Если, конечно, они не подкрепляются соответствующей угрозой.
Помимо укрепления собственных рядов занимались в группе и ведением непрерывной разведки в тылу противника. Как и под Бугульмой, для этих целей использовалось довольно много девушек. В одной из них, теперь одетой в коричневое платье гимназистки, Лев, к своему немалому изумлению, узнал Настю.
– Вот неймется тебе! Неужели после того раза не страшно?
– Страшно! Очень страшно! – честно призналась девушка. – Особенно, когда видишь, что беляки с попавшими к ним в руки большевиками творят. В селе Нижний Услон небось до сих пор повешенного члена комитета бедноты из петли не вынули. Так и висит – для устрашения. Уж всего птицы обклевали. Жуть!
– Вот-вот! А ты все у Симбирского тракта ходишь, со смертью играешь! Гляди, в другой раз меня рядом может и не оказаться…
12 августа Левобережная группа войск понесла тяжелую утрату. Во время неудачной попытки наступления на Казань осколком снаряда был убит её командующий Ян Юдин. Похороны очередного героя Гражданской войны проходили в Свияжске, что породило одну из самых причудливых легенд того безумного времени. Её невольным (а может, и вполне осознанным) создателем стал датский (!) писатель Хенниг Келлер, неведомо какими путями очутившийся в ставке Троцкого. Подобно другим заезжим любителям экзотики, русского языка он не знал и потому интерпретировал многие события по собственному разумению. Или вовсе без оного. Ну, а что ещё сказать, если в воспаленном мозгу побывавшего на похоронах военного специалиста писателя реальная фамилия Юдин отчего-то трансформировалась в имя мифического Иуды?
По крайней мере, вернувшись в благополучную Данию, Келлер быстренько накропал сенсационный бестселлер с весьма примечательным названием «Красный сад». Местом действия одной из глав стал некий населенный пункт Sviagorod, под которым, очевидно, следует понимать Свияжск. Согласно роману, верховодил там некий полусумасшедший «Красный еврей», разгуливавший в сером стальном шлеме с красной семиконечной (!) звездой. То ли это была злая пародия на Троцкого, то ли измышление самого автора. Скорее всего, вернее последнее. Ведь этот самый «Красный еврей» занимался в романе тем, что открывал в городском саду памятник не кому-нибудь, а Иуде Искариоту! Ни больше ни меньше! Мол, это самый революционный персонаж Библии, восставший на Сына Божьего. По описанию Келлера, памятник представлял собой вылепленную из красной глины огромную фигуру обнаженного человека с обращенным к небу лицом и петлей, затянутой на шее.
Стоило ли говорить, как обрадовались подобному пассажу многочисленные антибольшевистские организации. Это вам не какой-то там «Декрет об отмене честного владения женщинами», а много хуже! Так сказать, зримое олицетворение сатанинской сущности коммунистического режима! В 1923 году переведенную на русский язык (и, несомненно, приукрашенную) историю про памятник Иуде перепечатала эмигрантская газета «Церковные ведомости» – и пошла писать губерния! Фантастический «Красный еврей» быстро превратился в реального Троцкого, а монумент, установленный на могиле Яна Юдина, – в фантасмагорический памятник Иуде. Следы его, кстати говоря, многие ищут до сих пор. С нулевым, правда, результатом.
Невзирая на относительное затишье, не забывал о своих непосредственных обязанностях и сам Лев. Наряду с Настей и другими разведчиками он пару раз отправлялся во вражеский тыл. Как обычно бывает в местах, где недавно сменилась власть (или, напротив, где она менялась слишком часто), в окрестностях Казани царило самое настоящее столпотворение. Кого здесь только не было! Крестьяне, беженцы, чиновники, дворяне. Не отличались однородностью и противостоящие красным войска. Самыми сплоченными и дисциплинированными, без сомнения, являлись чешские легионеры. Да и по-другому им было попросту нельзя. Волею судьбы чехи оказались посреди чужой страны, за тридевять земель от родного дома, так что лозунг «Победа или смерть!» в их случае звучал отнюдь не пустой бравадой. Нельзя сбрасывать со счетов и солидный боевой опыт, приобретенный бывшими военнопленными.
Не меньшей стойкостью отличались и малочисленные белогвардейские части, состоявшие преимущественно из казаков и офицеров. Причем помимо большевиков они втайне презирали и ненавидели своих невольных союзников – Народную армию «Комуча» («Комитета членов Учредительного собрания»). Вот где, действительно, хватало «всякой твари по паре». В армии «Комуча» можно было встретить и рабочих, и насильно мобилизованных крестьян, и представителей интеллигенции. В общем, всех тех, кого привлекали позиции умеренных социалистов – меньшевиков и правых эсеров. Одного из таких вояк Лев, за малым, не взял в качестве «языка». Во время одного разведывательного поиска он неожиданно наткнулся на мирно спавшего под деревом гимназиста, винтовка которого аккуратно лежала рядом. Как видно, горе-часовой не смог дождаться смены караула. Сон оказался сильнее!
Лев хотел было скрутить подростка, но потом передумал. Вместо этого он вытащил из кармана свой «маузер» и негромко постучал по стволу дерева:
– Ку-ку!
Гимназист мигом вскочил на ноги, протирая обеими руками заспанные глаза.
– Ну что, будем сдаваться, защитник демократии, или как?
Лицо «комучевца» передернула гримаса ненависти:
– У-у-у, красная сволочь! Стреляй! Все равно ничего не скажу!
– Кричишь, а губы-то дрожат. Да и голос на фальцет срывается. Тоже мне, герой нашелся! Толком ещё не пожил, а уже умирать собрался. Ладно, ступай себе с богом.
– Куда? – не поверил собственным ушам гимназист.
– На Кудыкину гору! К своим, конечно. Только винтовочку я тебе не отдам, уж не обессудь. А то отбежишь подальше, да и стрелять надумаешь. Своим сам какую-нибудь правдоподобную историю об утере оружия сочинишь.
Гимназиста не пришлось долго уговаривать. Только пятки и засверкали! Провожая его взглядом, Лев подумал о том, насколько кардинально отличается их мировоззрение друг от друга. А ведь всего каких-то пять – семь лет разницы в возрасте. Но каких! Пока один спрягал латинские и греческие глаголы и переживал из-за плохих оценок в кондуите, другой успел воочию увидеть, что такое война. Да не одна мировая, а ещё и гражданская, с двумя революциями в придачу. Оттого и казался он себе сейчас глубоким стариком, прожившим как минимум лет девяносто.
В том же, что отпустил классового врага, Лев ничуть не раскаивался. Да и что мог рассказать простой гимназист? А в нашем штабе его бы наверняка в расход пустили. Нет уж. Пусть лучше живет. Пока…
5
Однако поучаствовать в обратном отвоевании Казани Льву так и не довелось. В середине месяца он вместе с другими надежными бойцами был откомандирован в Пермь, в распоряжение разведотдела 3-й Красной армии. Там, в условиях относительной стабилизации фронта, пока шла борьба с врагами внутренними. 16 августа в Пермской ЧК получили срочную телеграмму из Москвы. В ней предписывалось тщательнейшим образом досматривать пассажиров всех идущих на восток поездов. Предполагалось, что среди них могут затесаться белогвардейские курьеры, путешествующие по подложным документам. А поскольку сотрудников в местной ЧК явно не хватало, то для её усиления и стягивали чекистов и разведчиков чуть ли не со всего Восточного фронта.
Попал в досмотровую команду и Лев. К своим новым обязанностям он старался относиться добросовестно. И однажды свежеиспеченному чекисту улыбнулась-таки удача. В тот день, обходя вагоны, юноша обратил внимание на обычного с виду мастерового, сидевшего на полке с чемоданчиком на коленях. Вроде ничего подозрительного. Лишь барабанившие по ручке чемодана пальцы говорили о некотором волнении своего хозяина. Они-то его и выдали. Слишком белые и холеные. Лев знал, как выглядят пальцы подлинных мастеровых с их мозолями, обломанными ногтями и вечными трещинами с набившимся внутрь машинным маслом, которое уже не отмыть никаким мылом. А значит, и весь внешний облик, вплоть до кепки и косоворотки, не более чем искусная декорация.
Сделав шаг в сторону ряженого, «Студент» неожиданно резко скомандовал по-французски:
– Haut les mains![1]
– Quoi?[2] – дернувшись, переспросил незнакомец и тем самым выдал себя.
Его вывели из вагона и тщательно обыскали. И не зря. В подкладке чемоданчика отыскались верительные грамоты обосновавшегося в Архангельске белогвардейского правительства Северной области вместе с незаполненными бланками различных советских учреждений. Дальше отпираться стало бессмысленно. Лжемастеровой полностью во всем сознался и был отправлен для дальнейшего дознания в управление Пермской ГубЧК.
Примерно в это же время до города докатились слухи о вспыхнувшем в селе Сепыч Оханского уезда и быстро подавленном крестьянском восстании против власти большевиков. В его усмирении Лев участия не принимал, однако видел в следственном деле фотографии убитых красноармейцев и партийных работников и поневоле ужаснулся. Даже ему, казалось бы закаленному человеку, едва не стало дурно от зверств, творимых повстанцами. Выколотые глаза, разбитые головы, вспоротые животы, трупы растерзанных, забитых до смерти, заживо сожженных. Вот этого Лев решительно не мог понять. Ну, не нравится вам советская власть. Ладно. Восстали. Захватили в плен большевиков. Так расстреляйте. Или, на худой конец, если патронов жалко – повесьте. Но издеваться-то зачем?! И ладно бы над комиссарами, но и над простыми красноармейцами. То есть фактически такими же мобилизованными крестьянами, только из других губерний. И что же вы думали, Красная армия, подавив восстание и увидев такое, по головке вас гладить станет?! Оттого и пошло взаимное зверство в Гражданской войне. И распинали, и на кол сажали, и в землю живьем закапывали.
Почуяв себя в осажденной крепости, лютовала и местная ЧК. В начале сентября, вскоре после принятия Советом Народных Комиссаров постановления «О красном терроре», в Перми была расстреляна первая партия из сорока двух заложников. И это не считая тайной казни брата Николая II и, номинально, последнего российского императора Михаила Романова 12 июня 1918 года. В общем, насмотревшись на здешние нравы, Лев принялся настойчиво проситься обратно на фронт. Там хоть ясно, кто свой, а кто чужой!
Однако перед этим ему довелось поучаствовать в одной совершенно секретной операции. Кадры для неё отбирал лично начальник Камской военной флотилии Трифонов, совместно с начальником политотдела 3-й Красной армии Голощекиным. И это было понятно. Ведь речь шла о несметных сокровищах. Свыше четырехсот миллионов рублей золотом! Долгим и извилистым оказался их путь на пермскую землю. Первоначально все эти ценности хранились в ростовских банках и были реквизированы большевиками (вместе с богатствами местной буржуазии). А поскольку ситуация на фронтах Гражданской войны, напомню, менялась стремительно, то их решили, от греха подальше, направить с юга в Москву. По пути на «золотой эшелон» напал так называемый 1-й левоэсеровский революционный полк. Перевес был явно на стороне налетчиков, и ещё неясно, чем бы все закончилось, если бы в самый критический момент не подоспели красноармейские части, возглавляемые самим Серго Орджоникидзе. Золото отбили обратно и отправили дальше по назначению.
В столице ценный груз попал в ведение члена коллегии Народного комиссариата по военным делам Валентина Трифонова. А время было тревожное. Большевики отнюдь не рассчитывали удержаться в Москве в случае дальнейшего немецкого наступления. Некоторые горячие головы предлагали перенести столицу сразу в Нижний Новгород! Идею эту отвергли, однако стали исподволь готовиться к возможной эвакуации. Оттого золотые запасы страны и принялись отправлять на восток. Кто ж тогда знал, что очередная угроза придет именно оттуда?!
Отправилось в путь и ростовское золото. Сначала эшелон, теперь находившийся под командованием Трифонова, прибыл в Петроград, где получил солидное усиление охраны в виде тысячи эстонцев-интернационалистов. Словом, старались сделать все, чтобы исключить повторение печального опыта с левоэсеровским полком. Тем не менее под Череповцом на поезд опять попыталась напасть какая-то банда. О подлинной ценности груза грабители, скорее всего, не догадывались и стремились отбить вагоны с продовольствием, но получили достойный отпор. Вот где пригодился эстонский отряд!
Конечным пунктом маршрута намечался Екатеринбург. Однако когда эшелон наконец 8 июня прибыл туда, обстановка на Урале начала стремительно накаляться. К городу неудержимой волной катились восставшие чехословаки. Пришлось поворачивать в более спокойную Пермь. Но и там не было никакой уверенности, что город выстоит. Тогда Трифонов, посовещавшись с председателем Пермского Совета депутатов Новоселовым и участниками недавнего расстрела царской семьи Голощекиным и Белобородовым, решил спрятать золото где-нибудь в надежном месте. Для этой цели на Мотовилихинском заводе были заказаны двенадцать железных ящиков, удобных для переноски. Два оказались лишними – все и так уместилось в десяти. Естественно, предстоящую операцию планировалось держать в строжайшей тайне. Полностью о ней была осведомлена лишь вышеупомянутая четверка.
В качестве места для обустройства будущего «схрона» выбрали близлежащий Лысьвенский завод. Очевидно, решение это было подсказано Александром Белобородовым, в свое время работавшим там слесарем. Да и Трифонов до того слышал о Лысьве как о достаточно глухом местечке. С железнодорожной станции выгруженное из вагонов золото увозили поздним вечером сразу на нескольких подводах, под охраной конвоя из наиболее надежных бойцов. Впрочем, как ни береглись, интереса со стороны досужих зевак все же избежать не удалось.
– Чего везете, сынки?
– Проходи, проходи, папаша, – ответил чётко проинструктированный Лев. – Не видишь, что ли – оружие везем. В окрестных лесах хоронить будем. На случай, если беляки сюда ворвутся. Ну, чтоб партизанскую войну в тылу врага развертывать!
– А-а-а. Ну, дай-то бог…
До центра Лысьвы добрались уже под покровом ночи. Там сделали остановку у двухэтажного деревянного здания почты, куда и занесли тяжеленные ящики. Бойцы отряда сразу же стали вокруг в оцепление. Льву отчаянно хотелось спать, но он мужественно боролся с дремотой, меряя шагами отведенный ему крошечный участок булыжной мостовой. Тускло мерцавший неподалеку фонарь едва разгонял ночную тьму. То справа, то слева раздавались звуки заразительной зевоты.
– Ох, как бы челюсть не вывернуть… – пробормотал сонным голосом кто-то.
До самого утра их так и не сменили. Внутри почтовой конторы оставались только Трифонов, Голощекин, Новоселов и Белобородов. Когда же с первыми лучами рассветного солнца все четверо вышли наружу, ещё не до конца отупевший от сна Лев отметил сразу две странности. Во-первых, локти и колени столь уважаемых людей и видных большевиков оказались перепачканы землей и, во-вторых, никаких ящиков с ними не было! Вывод напрашивался только один. Именно здесь, под полом первого этажа, они собственноручно и закопали ростовские миллионы. Впрочем, своими догадками Лев не спешил ни с кем делиться. Да и не он один оказался столь глазастым. Среди бойцов из числа немцев-интернационалистов то и дело пробегал приглушенный шепоток: «гольд, гольд»! Тем не менее тайну спрятанного золота никто так и не выдал. По крайней мере, оно спокойно пролежало в Лысьве вплоть до конца Гражданской войны, пока, наконец, не было извлечено банковскими служащими под руководством наркома финансов РСФСР Николая Крестинского.
Эта экспедиция оказалась последней в «пермской одиссее» отпросившегося-таки обратно на фронт Льва. Хотя незадолго до отъезда у него и состоялся весьма примечательный разговор с самим Трифоновым.
– Послушайте, молодой человек, – спросил тот, протирая платочком свое пенсне, – а вы не хотели бы продолжить службу в нашей Камской флотилии?
– Признаюсь, об этом совершенно не думал. Да я же и не моряк!
– Это не важно. У нас тоже не все моряки. Зато люди какие! Одно слово – интернационалисты! Вот, полюбуйтесь – Прокопчук, Шруб и Мужина. Все подданные бывшей Австро-Венгерской монархии, хотя один русин, другой чех, а третий и вовсе итальянец. Ну, так как?
– Нет, товарищ член Коллегии Наркомвоен. Мне на суше как-то спокойнее.
– Жаль. Очень жаль…
6
После возвращения из-под Перми Льва вновь забросили в белогвардейский тыл. На сей раз ему предстояло выполнить одно весьма необычное поручение. В июне 1918 года, в результате Чехословацкого мятежа, в Самаре появилось так называемое правительство «Комуча» («Комитета членов Учредительного собрания»), поставившее своей основной целью дальнейшую борьбу с большевиками. Первый его состав был преимущественно эсеровским. Однако затем в правительство «Комуча» стали избирать и представителей иных партий. В основном – социалистического направления. Так, например, в августе пост министра труда занял член Центрального комитета партии меньшевиков (РСДРП) Иван Майский (Ян Ляховецкий).
История его избрания в правительство «Самарской Учредилки» темна и запутанна. Сам Майский впоследствии утверждал, будто его в буквальном смысле уговорили стать министром товарищи из областного комитета Волжско-Уральского района партии меньшевиков. Мол, очутившись отрезанными линией фронта от Москвы, они имели право на известную автономию. Оттого и делегировали его в явно белогвардейское правительство с целью отстаивания собственных взглядов. Версия эта показалась многим неубедительной, а проведенное позднее расследование показало, что никто Майского не уговаривал. Напротив, он сам, пользуясь своим авторитетом члена ЦК, прямо-таки продавил такое решение. Уж очень хотелось министром стать и политической деятельностью заняться! А ведь Центральный комитет партии меньшевиков, отпуская Майского в поездку на Волгу, строжайше запретил тому выступать в качестве члена ЦК. Увы, но память «товарища Яна» оказалась весьма короткой. Плевать он хотел на партийные директивы! Ну и на дисциплину, само собой.

