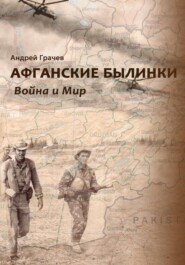
Полная версия:
Афганские былинки. Война и мир
– Морсанов, давай воды!
– Нету, – испуганно пролепетал тот.
– Как нет, а это что? – И лейтенант пнул канистру в раздутый бок.
Стало слышно, как далеко-далеко, где-то над крышей, звенит комар.
– Я спрашиваю что? – Не понял лейтенант и поддал ещё раз.
И тут раздался оглушительный, чудовищной силы взрыв, – так всем показалось. А ещё показалось, что на земле вдруг внезапно отменили атмосферу, а вместо неё подсунули какую-то ядовитую зелёную дрянь. Взорвавшаяся канистра развернулась лепестком. Грязно-бурые ошмётки разлетелись вокруг. Эти ошмётки всех и спасли. Едкая, вонючая жидкость залепила лейтенанту всё, и он не смог никого застрелить, не смог даже достать пистолета. Стоял только и протирал глаза, из которых мощным химическим потоком брызнули слёзы.
– Сволочи, – просипел он. – Я ведь… Я ведь приказ вам принёс: Дорошин, Гилязов, Кременцов – дембель! Самсонов – младший сержант.
Потом шагнул, спотыкаясь, к арыку, но промахнулся и пошёл сослепу вдоль. Сделал шаг, другой, и взвод ахнул, – влажные, чёткие следы оставались на минном поле.
– Стой! Куда? Мины! – забился в истерике Старков.
– Стоять! – взревел Миносян.
Но лейтенант не слышал. Оглушённый, ослепший, шагал по минам. И весь взвод, весь до единого, вдруг сорвался и бросился наперерез. И до того все испугались, до того ужаснулись, что начисто забыли и где бегут, и по чему. Гигантскими кенгуровыми прыжками летел Миносян, мелким кроликом семенил Старков, Матвиенко, споткнувшись, грохнулся в яму, Красильников, не заметив, на него наступил. Лейтенанта догнали, подхватили на руки и молниеносно, чтобы отмыть, шлёпнули в арык.
– Да вы что? – изумился он. – Вы что?
И ему стали торопливо, взахлёб объяснять что. И поскольку обрадовать его спешил каждый, то понять ничего было нельзя. Но лейтенант понял.
– Ах, вот оно что… – протянул он и внимательно их осмотрел. – Значит, вот как… – Потом оглянулся на влажные разнокалиберные следы и вздохнул. – Старков, где панама?
И вдруг, повернувшись, снова зашагал по чёрному от влаги полю. Панама лежала ровно посередине.
– Суицид, – охнул Крюков.
– Крыша поехала, – догадался Линьков.
Но лейтенант вернулся, нахлобучил на Старкова панаму и сообщил:
– Да я виноградник сам минами расписал, чтобы у вас в извилинах не забродило! – И вдруг улыбнулся. – В другой раз без сапёра не ставить!
И над крышей снова стал слышен уцелевший комар. С дерева бесшумно сорвался осенний лист. Взвод комара слушал молча. Смотрел, думал и не дышал. Смотрел в основном на опустившийся за лейтенантом брезент, а не дышал оттого, что было всё ещё нечем, но не долго. Первым захихикал нервный Самсон, подхватил Кузя, и через минуту взвод лежал на земле. Смеялись до ужина, смеялись после, потом легли спать, проснулись и снова стали смеяться, потому что сообразили, что опять на крыше. Но к обеду спустились, притихли, и Дорошин снова услышал таинственный шёпот:
– Дрожжей, дрожжей надо меньше! А главное – не закрывать, естество своё возьмёт, – разобрал он и подумал:
– Точно, естество! Закрывай, не закрывай, – вырвется.
И уже через неделю трясся на раздолбанном БТРе в Кабул, счастливый и от счастья хмельной, и бессмысленно бормотал:
– Вырвался! Ей-богу, вырвался, пронесло!
Тонкое дело
Базарбаев сказал, что сделает плов. Сидел на крыше, распевал что-то своё и бесконечно заунывное, – со стороны ну, вылитый душман. И сказал:
– Палов хочу делать, ош-пош!
– Чего? – не понял Линьков.
– Палов, вкусно будет.
И Самсонова тут же подхватило:
– Плов, мужики, классная вещь! Я на карантине в самоходе пробовал, – убиться можно!
И чуть не убился, дёрнувшись от волнения и полетев с крыши. Но его поймали, укрепили обстоятельно на прежнем месте и уточнили:
– А плов он вообще из чего?
– Скажи им, Базарчик, скажи! – волновался Самсон, потому что этот вопрос волновал сейчас всех.
И Базарбаев задумчиво, как песню запел:
– Мясо нужен, и рис нужен, маркоф нужен, и лук нужен, и зира… Мясо, чтоб жирный, и рис девзира.
Про «илук» с «ирисом» как-то догадались, но кое-что озадачило.
– Какой зира-зивзера? – взорвался Лиьньков. – Ты не свисти, толком скажи, что надо!
Оказалось, приправы и какого-то особого риса, и как Базарбаева ни уговаривали заменить приправу картошкой, не согласился. И снова запел:
– Шавля будет, шурпа будет, мастава будет, басма будет, палов не будет…
Тут уже и понять не пытались, захотелось сразу убить. Довёл этим пловом до невозможности, потому что седьмой день ели кукурузу. Так получилось.
Остались в «зелёнке» островком, как на острове питались подножным кормом, а под ногами валялись только раскатившиеся из мешков сухие початки. Раскатились они во время штурмовки, и никто их поначалу не замечал, но когда выели сначала сухпай а потом по всей окружности виноград, заметили и стали есть. «Вертушки» на остров летать боялись, потому что их стригли здесь по две штуки за день. Одна до сих пор догорала за кишлаком. Нормальный транспорт пройти не мог, потому что тоже горел и увязал в совершенно непроходимых минных полях. И харч на «остров» таскал с горы первый взвод, но таскал, прежде всего, не харч, а боезапас, а из харчей всё, что полегче, и получалось, сухари и галеты. Но и сухарей теперь не получалось, потому что остальной батальон оттянули за горку, где десантуре на блоках стало нехорошо. Как будто здесь хорошо, санаторий в курортной зоне.
Зелени вокруг почти не осталось, её начисто выкосило перекрёстным огнём. В крышах от миномётных обстрелов появились трещины и пробои, и туда время от времени проваливались. И, главное, сплошь хорошие люди. Замполит с политинформацией приходил, – не провалился. Танковый старшина из-за пропавшей бочки ругаться, – хоть бы что. А комбат заглянул, сделал шаг, и всё. Доставали, как слона из корабельного трюма, потому что со двора не войти, а по-другому не выйти. И пока вытаскивали, столько от него правды узнали и про жизнь эту, и про начальство, и про войну, что даже порадовались, что не заглянул особист. А теперь никто не заглядывал, только «духи». Заглянут, постучат из приличия в несколько стволов и, не дожидаясь ответа, уходят. И хорошо ещё, перестали снайперов выставлять, Гилязов их начисто отучил. А то и бочку классную, танковую продырявили, и Первухину испортили штаны, которые на ней сохли. В общем, испорчено было всё, и настроение, и бочка, и штаны. А тут плов. Оживились, конечно, стали приставать к Базарбаеву, чтоб подтвердил. И тот спел:
– И мясо, и лук, и маркоф, и зира, и девзира…
И оказалось, что из всего, что для плова нужно, у взвода есть только вода. Протекала через «зелёнку» в мутном арыке, и ночью можно было набрать, сколько хочешь. И тут уж, конечно, наоборот, – расстроились.
– Да где мы тебе мясо найдём? – возмутился Самсон. – Какая ещё зира-зевзира.
Базарбаев удивился:
– Зачем вы? Сам найду. – И запел: – и мясо найду, и лук найду, и зира найду, и девзира…
И, главное, так вкусно запел, что у всех животы подвело, хотя и было не вполне понятно, про что.
– Да где найдёшь то? – сглотнул Поливанов.
И Базарбаев загадочно улыбнулся:
– Вы не знаете, я знаю. – И опять: – И гушт, и зира, и девзира…
– Ты что же, к местным пойдёшь? – не поверил Линьков.
И Базарбаев покачал головой:
– Зачем пойду? Сами придут. Усман-ака, Эркин-джан, Сабит-джан, Хасанали, Бахтияр…
– Земляки! – догадался Поливанов.
И Базарбаев даже удивился:
– А кто другой?
И все вспомнили, что у Базарбаева, действительно, всюду были земляки, и мысленно тоже почти запели: и у танкистов, и у связистов, и у лётчиков, и у пушкарей, и в десантуре. И, что характерно, почти все повара, а, значит, при мясе, и получалось реально. Непонятно было только, как он их здесь найдёт и всё это доставит. Но Базарбаев утешил:
– Зачем искать? Сами придут, – и стал перечислять: – И Анвар-ака, и Эмин-джан, и Махмуд-ака, и Джума.
Как они придут сами, если на островок не проходили даже колонны, было неясно, но тут-то как раз и прояснилось, потому что одна колонна всё-таки должна была пройти. Танкисты между скандалом сообщили, что пойдут снимать у развилки блок, и как раз через островок. И, конечно, и горючку должны были оставить, и сухпай, что, безусловно, всех интересовало, но не так, как плов. Он ехал в колонне по частям и должен был сложиться во что-то прекрасное. И совсем не еда уже всех волновала, а именно это прекрасное и не похожее ни на что. На Базарбаева смотрели, как на сказочного джина, которому нужно было только высказать желание, и высказывали:
– Базарчик, а поострее можно?.. С перчиком?
– Можно, – отвечал тот и стрелял куда-то в зашевелившуюся ни с того, ни с сего зелень.
– А с чесночком если, с чесночком?
– И он, подумав, отвечал:
– Можно, – и снова стрелял. – Достархан будет, пальчики оближешь! – грустил он и объяснял, что такое достархан.
И оказывалось, ничего страшного. Просто стол, в смысле всё, что на нём, и, когда узнавали, что, начинали захлёбываться слюной. Потому что есть же хотелось седьмой день. А пока ели кукурузу. Шелушили початки, дробили прикладами в какой-то посудине, отчего посудина тоже дробилась и визжала осколками в зубах, как чёрная икра. Хотя, как она визжит, никто не знал, но Самсонов рассказывал.
Кукуруза, сколько её не вари, оставалась жёсткой. Потом и варить перестали, потому что не на чём, и стали просто замачивать, а это было совсем не просто, терпеть суток двое, пока размокнет. Но терпели и утешались, что с грядущей колонной приходит плов. Консервов и прочей прелести тоже ждали, но уже не так, потому что Самсонов разъяснил, что плов, который давали однажды в полковой столовой, это простая каша, которую и в консервах дают. А хотелось уже, чтобы было непросто. Душа просила не того, что давали, а именно того, что не давали: в «зелёнке» не бегать, кукурузы не есть и не спать на крышах. Да и какое там спать, их и оставили здесь, чтобы не спали. А колонны всё не было. Сначала кончилась соль, потом кукуруза, но, когда кончилась, даже обрадовались, потому что без соли есть её, оказалось, совсем невозможно. И лейтенант уже начинал нервничать и даже два раза повышал по рации голос, а на него из рации тоже повышалось:
– Рожу я тебе, что ли? Нести и некому и нечего!..
И это тоже была правда, потому что у них там не было даже воды, и, когда первый взвод завалил на горке барана, то есть его особенно никто и не стал. Там всем не есть уже хотелось, а пить. И получалось, что у третьего взвода есть главное – вода, а, значит, не так уж и плохо. И становилось уже интересно:
– Базарчик, а как по-узбекски вода?
– Сув.
– А пить?
– Ичик.
И напившись, взвод бегал осторожно по крышам, постреливал в облысевший виноградник и время от времени уточнял:
– А виноград как по-узбекски?
– Узум.
– А ворота?
– Ишик.
– Ну, тогда смотри в тот ишик за узумом… Пошли гады, пошли!
И они, действительно, пошли. На двенадцатые сутки «зелёнка» ожила» и накрыла взвод шквальным огнём. Потом поднялась и снова откатилась, чтобы накрыть, но без особого толка. Могучие дувалы спасали взвод и оставшийся боезапас. Стреляли скупо, одиночными и по-собачьи урчали:
– У-у-у, гангрены… Вот вам с перчиком, вот с чесночком!.
– Базарчик, как перец по-узбекски?
– Калампур.
– Ну, тогда посыпь им вон ту рощицу.
И он сыпал и мечтательно вздыхал:
– Ай, какой палов будет, какой достархан! – и перечислял, – И катлама, и чак-чак, и курут…
– Ну, тогда за катламу… Геныч, вруби!
– Лёха, Леха, справа смотри!.. Давай за чак-чак.
И Базарбаев печально качал головой:
– Нет, тут хашар надо.
– Чего?
– Хашар, когда вместе.
– Ну, тогда хашаром. Все вместе по счёту три… Три!
– А лейтенант покрикивал:
– Не залёживаться, не залёживаться! Всем перебегать!
И все старались перебежать поближе к Базарчику, который раскрывал над «зелёнкой» волшебный, сказочный достархан.
– А ещё у тебя в саду что растёт?
– Анор – гранаты.
– Лёха, Лёха, справа держи!.. А ещё что?
– Айва растёт, олма растёт, хурма растёт…
И прикололись. «Зелёнку» теперь не просто отбивали, а накрывали достархан, отбивались не гранатами, а анором, и изо всех сил берегли свой последний чак-чак – пулемёт.
«Зелёнка» пошла на островок, чтобы стянуть с горы батальон, вернуть его на исходный рубеж, но, когда батальон вернулся, свободным, огромным островом стала уже вся зелень. Подоспевшая бронеколонна выручила третий взвод, густой цепью раскинув десантуру и наполнив прежний островок шумом и суетой.
Весь день третий взвод спал. Потом проснулся, схватился за сухпай и вспомнил:
– Базарчик, а как же плов?
– Будет, будет вам палов, – убеждённо ответил он, но с места не сдвинулся.
И тут Линьков догадался категорически уточнить:
– Когда?
– Когда дома будем, у меня соберёмся. Какой палов будет, какой достархан! – ответил он и запел, – И анор, и чак-чак, и анжир, и хурма, и катлама…
И улыбнулся так, что застывший в изумлении взвод помолчал, помолчал, подумал и рассмеялся. Почти истерически рассмеялся со всхлипами и до слёз.
– Вот паразит, на пустом месте развёл! – стонал Чак-чак-пулемётчик.
– И, главное, ни слова ведь не соврал! – восхищался Самсон и вдруг, поглядев в печальные, усталые глаза, сказал: – Базарчик, а ты пожелтел.
И все поняли, отчего он такой печальный. Давно болел, с самого начала, но никому не сказал. И Самсонов задумчиво покачал головой:
– Восток – дело тонкое… Сиди, Базарчик, сиди.
И осторожно отобрал у него автомат.
Три дня Базарбаев лежал на крыше и жёлтыми глазами смотрел в небо, пока с этого неба не смогла спуститься «вертушка». Сапёрам, наконец, удалось расчистить дворы, и его по этим дворам понесли, потому что он так ослаб, что сам уже не ходил. Но перед самой загрузкой он их придержал. Посмотрел тусклыми и пронзительно печальными глазами и сказал:
– Вы все мои гости! И ты, Лёха-джан, и ты, Самсон-ака, и ты, Гена Чак-чак… Такой палов будет, такой достархан…
И взвод, не сговариваясь, подхватил и запел:
– И анор, и анжир, и катлама, и чак-чак!..
Ложка
Однажды случилось – тяжёлый выдался день. Бегали много и всё как-то без толку. Высотку в «зелёнке» взяли, потом ушли, потом снова взяли и снова ушли. Да ещё вчистую расстреляли все заначки, и ещё ящик пришлось открывать и расстрелять два новых цинка. Расстреляли, полежали за дувалом и решили утешиться супом. Потому что, нет худа без добра, а добро вот оно, лежит за тем же дувалом.
Ящик разбили и осторожно развели костерок. Патронный цинк на костре прокалили, чтобы краска слезла и прочая дрянь. Потом вычистили песочком, залили из арыка водой и стали варить, – с песочком и рисовой кашей. А может, и гороховой, это уж у кого что в банках случилось. И тут выяснилось – ложек нет. Если уж пойдёт наперекосяк, то так всё и перекосит. Обычно в лифчиках держали, в кармашках с магазинами. Теряли их понемножку, но оставалось их на взвод целых пять. А тут хватились и нету. Вытряхнули, когда магазины набивали. И, главное, все, и, что обидно, у Самсонова щётка зубная уцелела, у Лобанова карандаш, а больше не уцелело ничего, даже сигарет.
Ну, размешать, положим, и палкой можно, а банками суп хлебать обидно. БМП потеряли, с высотки сбили, да тут ещё и ложек нет. И больше всех сокрушался Косаченко. Ложка у него была дембельская, мельхиоровая, с искуснейшей гравировкой: «ищи, сука, мясу!». И, может быть, немного его нашла, но ведь работала же, искала. А теперь нет, хоть снова на высотку возвращайся и там ищи. Так он и сделал.
– Всё, ищи, сука, ложку! – приказал себе и пошёл.
– Брось, – отговаривали его, – завтра мы их тебе вагон найдём.
– Да из дерева нарежем, распишем под хохлому!
– Если не найду, сам здесь всё распишу и нарежу! – пообещал он. – Я её с самого дома вожу.
И прямо как есть попёрся в «зелёнку», – в лифчике на голом теле и с каской на заднице. И тут все его поняли – из дому, а думали просто дурак.
– Может, она у него из маминого сервиза! – догадался Старков, – Его там одного самого найдут.
И тоже пошёл. А за ним Самсонов. Рассудил хозяйственно:
– Нельзя их вдвоём туда отпускать.
А за Самсоновым Черепок:
– Там втроём и ловить нечего.
И, чтобы не отпускать их туда вчетвером, в «зелёнку» ломанулись Лобанов, Красильников, Генка Чак-чак. Одним словом, все, а Кузнецова оставили, чтобы следил за супом и объяснил в случае чего, куда все делись. Так он и объяснил:
– За ложками пошли.
И вернувшийся с батальонной летучки лейтенант пожалел, что вернулся. За ложками они пошли в ту самую «зелёнку», откуда батальон с треском выбили, и куда он снова собирался только утром. И в голове у лейтенанта сразу взорвалось множество разнообразных и безрадостных мыслей, среди которых первой была застрелиться, второй – связаться с ротой и батальоном, а третьей сразу после этого всё равно застрелиться, потому что ему нужно было сообщать, что его взвод ушёл в самоход. И куда? На высотку, где ещё догорала подбитая БМП. И зачем? За ложками. И лейтенант решил для начала связаться с ротным.
– Куда ушли? – не поверил Шевцов.
– На высотку.
– Зачем? – ужаснулся тот.
– За ложками.
И теперь уже стреляться захотелось ротному. Нужно было идти и будить комбата. Но тот уже и сам проснулся, причём вместе со всем батальоном. На высотке что-то грохнуло, треснуло несколько раз короткими, злыми очередями и затихло. Потом зашипело, хлопнуло ракетами и засветилось зелёным, малиновым и белым, – Косаченко искал ложку. А за дувалом осветились лица офицеров, у одного соответственно зелёное, у другого белое. Они во всём происходящем искали смысл. А смысла не было, происходил кошмар. Причём совершенно неописуемый, и его ещё предстояло описать начальству. Но тут, как из-под земли, чёртом из табакерки выскочил запыхавшийся Старков и виновато сообщил:
– Мы там это… Высотку взяли! Косаченко спрашивает, дальше что?
Оказалось, прошли по арыку, да так удачно, что на высотку попали почти без хлопот. И комбат молниеносно приказал:
– Первый, второй седьмой, к третьему, быстро!..
– Девятой поднять завесу!
И разбуженная девятая завесила огнём седьмую роту. Та с треском ломанулась по арыку и скоро донесла:
– «Костры» в сборе!.. Двухсотых нет!
И комбат не поверил своим ушам. Для того, чтобы эту высотку взять, нужно было дождаться рассвета и прикрыться вертушками. Нужно было подтянуть бронеколонну, разведать цели, разместить корректировщиков. Нужно было обеспечить прикрытие сапёрам, прикрыться соседом, обмануть противника обходным. И много, что ещё было нужно, а оказалось, что всё, что для этого нужно, – ложка. И ведь никто не поверит, совершенно несусветная чушь. А, главное, непонятно, что теперь со всем этим делать, не с высоткой, конечно, а именно с ложкой. Налицо грубейшее нарушение дисциплины, но ведь и высотка тоже налицо. И замполит предложил:
– Забыть. Никакого самохода не было, а была инициатива в сложной боевой обстановке.
Но забыть не удалось. Инициатива грохотала на высотке так громко, что её услышал со своего КП даже Папа:
– Третий, у тебя что?
– И комбат честно ответил:
– Геморрой… Третий седьмой взял ноль шесть!
– Хорошо! – обрадовались на КП. – Подтягивай туда всё, что есть…
А что у комбата было? Плохое настроение и потрёпанная под высоткой восьмая. А с высотки спускался в зелёнку взмокший от пота «геморрой». Его пришлось снять, чтобы усилить восьмую, и комбат пошёл выяснять:
– Идиоты!.. – начал он – Вам кто разрешил?.. А если бы на мины?.. А если бы вообще…
А идиотом чувствовал себя сам, потому что как ни крути, а взяли, и на отбитой высотке сейчас спешно обтягивалась минными полями хозяйственная седьмая.
– Да вы у меня!.. Да я вас!.. – завёлся комбат.
Но что он их, рассказать не успел. Минные поля стали срабатывать, и на высотке началось такое, что комбату вместе со своим «геморроем» и всей восьмой пришлось срочно заняться делом. Над высоткой загудело, завыло, завизжало противными рикошетами. Весь противоположный склон замелькал неуловимо-беглыми огоньками одиночных выстрелов. Восьмой пришлось оттягивать огонь на себя, и оттянула она его столько, что чуть было от этого огня вся и не погорела.
Два часа бушевал под высоткой беспорядочный ночной бой. Перебегали, в темноте торопливо пересчитывались, и снова перебегали. А с дороги всеми своими стволами загудела «броня». Полк бросил на карту всё своё «приданное», – приданные ему самоходную батарею и танковый взвод. И, чтобы не попасть под своих, комбат оттянул восьмую назад.
– Третий взвод, на исходный! – приказал он.
И третий вернулся под дувал, где по-прежнему сидел и меланхолично помешивал палкой суп задумчивый Кузнецов.
– Пришли? – обрадовался он. – А то выкипело совсем…
Все глянули на то, что выкипело и расстроились уже окончательно, потому что палка в этом супе стояла вертикально и из него получилась всё равно каша. Правда, горячая. Вздохнули, но решили, пока не остыло, поесть. Уселись, вытащили выжидательно из заначек галеты, и тут Косаченко дрогнувшим голосом произнёс:
– Ложка!
И обречённо перетряхнул свой лифчик. Из него вывалились магазины, труха и с полкило пыли, а ложки не было. Потерялась, когда бегали вместе с восьмой.
– Сидеть! – рявкнул Самсон и поймал Косаченко за ногу.
И Косаченко с большим трудом удержали. Держали его минут двадцать. Самсон с Поливановым за руки, остальные за ноги, а Старкова для прочности посадили на пузо. Тот, конечно, подрыгался, поматерился, потом подозрительно затих, и его отпустили, потому что выяснилось, что заснул. И все с облегчением взялись за кашу.
Подобрали банки, загнули на них крышки совочками и, угрюмо поскрипывая пищей, принялись есть. Потом зашвырнули пустой цинк в кусты, обернулись и вздрогнули – Косаченко не было. Оказалось, пока ели, проснулся и снова ушёл, а куда, всем было предельно ясно.
– Идиот! – догадался Самсон.
– Полный кретин! – подтвердил Лобанов.
И все бросились искать идиота в «зелёнку», а Кузнецова опять оставили, чтобы разъяснил лейтенанту, что и как. И тот снова разъяснил:
– Ушли.
– Куда? – изумился Шерстнёв.
– Косаченко искать.
– Кого? – переспросил Косаченко и вышел из-за спины лейтенанта.
Оказалось, ходил к танкистам за ложками. И лейтенант решил, что эта ночь для него никогда не кончится, и что она по любому будет в его жизни последней, потому что ему снова предстояло докладывать, что его взвод ушёл. Но доложить он ничего не успел, третий взвод обо всём доложил сам. Только что успокоившаяся «зелёнка» снова взорвалась, затрещала и рассыпалась разнокалиберной дробью, и с такой интенсивностью, что на лейтенанта дождём посыпались срезанные листья и клочья виноградных лоз, – третий взвод вовсю искал Косаченко. Но нашёл, похоже, кого-то не того, и сейчас те, кого он там нашёл, спешно отходили.
– А, чёрт!.. – проснулся Шевцов. – Подъём, всем вперёд!
И седьмая рота пошла искать третий взвод, открыв неожиданно образовавшийся оперативный простор. И батальон этим простором воспользовался немедленно и действительно оперативно и уже через полчаса заполнил его собой. Проснувшись и торопливо снимая посты, он протащил сквозь «зелёнку» колонну и на рассвете из ущелья вырвался. Прошёл узкую горловину и тут же рассыпался блоками и постами, заняв всё, что господствовало над долиной. А мимо него прошёл второй батальон, за которым пылил, замыкая движение, первый. Впервые за всю операцию полк одним рывком прошёл километров пятнадцать. Противник отходил так поспешно, что не успевал даже прикрыться минами, решив отложить это удовольствие на потом. Но сапёры и этого удовольствия ему не доставили, сами перекрывая все выходы на дорогу. А по этой дороге неутомимо громыхал катками могучий тральщик, шла сквозь сплошную серую пыль поседевшая от неё броня. Полк продвигался чулком, выворачиваясь змеиной шкурой и оставляя свои ударные части в арьергарде. И третий батальон неожиданно для себя остался. Он оказался в полной тишине, которую нарушал своим матом Косаченко, горячо убеждавший сапёра:
– Ищи, сука, ложку, ищи!
Он уговаривал сапёра поискать её миноискателем, но уговорил только за участие в супе, который снова затевал третий взвод. Но уже настоящий, с пятью картошками, которые для справедливости разваривали до полной неузнаваемости. Сапёр на него посмотрел, понюхал и соблазнился:
– Только на полчаса!
Ушёл без малейшего шума в «зелёнку», но уже через десять минут радостно заорал:
– Нашёл!
И предъявил Косаченко сияющее домашнее чудо. Тот бережно обтёр его о штаны и удовлетворённо вздохнул:

