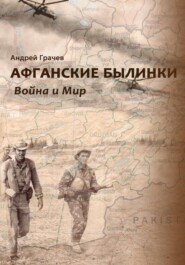
Полная версия:
Афганские былинки. Война и мир
– Ты кто? – спросил он его сразу.
– Сапёр, – открылся тот. И больше не закрывался.
Шлёпал бодро рваными кедами и отчаянно всю дорогу скандалил.
– Леннон жив! Макаревич бессмертен! – орал он Крюкову. – А ты – «колхоз» и «фуфайка»!
– Это какой Макаревич? – изумлялся тот. – Из третьего взвода?
– Сам ты из тридцать третьего! – страдал сапёр и размахивал мохнатой от бинтов грязной лапой. – Колхоз!
– Сапёр, прикройся! – пробовал наехать Дорошин.
– Авиация прикроет! – обещал тот, и во всё горло заводил:
– Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!
– Шире шаг! – настаивал сержант.
– Шире штаны порвутся! – отстреливался тот и развивал:
– Мотострелки – мотнёй мелки! Бычки стреляете, а козла на гребне завалить не смогли. Это потому, что сами козлы!
И так весь день: поёт, скандалит, радуется неизвестно чему, потом ненадолго заткнётся, попросит у Крюкова уколоться «для кайфу». И по новой:
– Какая фантастика! Какая книжка? «Машина времени» говорю! Со-олнечный остров, ска-азки обман!..
Дорошин его уже и слышать не мог. Его и самого мутило. На горке едва не приложило гранатой. Поэтому ротный и сплавил его с горы. В ушах звенело, звучало всё как сквозь вату, но и сквозь вату всё равно звучало:
– Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!
И так далее, и тому подобное, и всё в этом роде. Крюков хихикал, молодые от смеха сбивались с шага, а Дорошину хотелось его прибить, потому что и без того на душе кошки скребли.
«Чего прилипли? Чего не берут?» – вертел он беспокойно головой. Ведь как бы он сделал, – разбился на два, обошёл по склону, и всё. Положили бы, как прошлой весной, разведку. Говорили, что только один из всего взвода тогда и ушёл, и того всем полком неделю искали. Ещё чудная у него была какая-то фамилия. «Да, похоже, здесь всё и было», – узнавал Дорошин. – «И сопочка эта, и распадок…» И похолодел. Прямо над собой, на склоне, увидел последнюю свою собственную закладку, и камушки узнал, и кучу стреляных гильз. Это значило, что он полдня водил всех по кругу. «Всё!» – понял он. «Теперь голыми руками возьмут!» И от досады чуть не сказал вслух. И как получилось, как зевнул? Шли по солнцу и только вниз. Но в горах так: идёшь вниз, а остаёшься на месте. И хорошо ещё никто не заметил. Совсем бы расклеилось войско, обленилось вконец. И чтобы не заметили, прикрикнул:
– Шире шаг!
И кольнул для маскировки сапёра:
– А тебя, чумазый, что, приглашать?
И тот уж подхватил, завёлся с пол-оборота:
– Опух? Обурел? Лысый?.. Ишак тебе шире шаг! На мне пот войны и героизм сражений! Я, между прочим, на дембель иду, а тебе до него как до солнца лысиной! Дай в зубы, чтобы дым пошёл!
И Дорошин дал, чтобы заткнуть, и даже зажигалку поднёс. И вдруг сквозь блаженное причмокивание и дым услышал:
– Сухим руслом греби, полководец! Кругаля даём.
Заметил, паразит, углядел! Дорошин взглядом его испепелил, но сообразил – верно. И разозлился на себя. Правильно его ротный спустил, совсем мозги вышибло. Склон был весь изрезан сухими руслами, но это они сейчас сухие, а весной по ним стекает вода, и стекает, конечно, в реку, а им туда и надо. Там пехота на блоках, пушкари, и даже если нет никого – вода. И Дорошин, всё сообразив, крикнул:
– Левое плечо! Шире!
И, действительно, руслом пошло веселее. Петляли, конечно, крутились, но это только кажется, что короче всего по прямой, а в горах лучше верить воде, она знает и выведет. И ведь вывела вода, не обманула, хорошая. На поворотах дважды показалась зеленой жилкой река. И увидев её, все разом подтянулись, повеселели даже и почти посвежели. Никого не нужно «застраивать», никого подгонять, – воюй – не хочу. Да и спокойней стало в сухом каньоне. И Дорошин начал уже успокаиваться, но, поднявшись для страховки на скалу, понял – всё. Каньон отвесными стенами расходился далеко впереди. Огромная пустошь открывалась перед ними, километра два. И проскочить её безнаказанно никакой возможности не было. Накроют как раз посередине. И Дорошин сел обречённо на камень. Нужно было кого-то оставлять, – себя оставлять. А себя оставлять нельзя. Это всё равно, что оставить без себя, забьют без него, завалят. А Крюков что – «медицина». Бьёт без промаху, но шприцом. Круглова, Макеева, Лиховца? «Соображай, Серый, соображай», – уговаривал себя Дорошин. Но как ни тряс головой, ничего путного вытрясти из неё не мог. Только шум сплошной и «вечерний звон».
– Растяжку, – сообразил за него сапер. – Напорются, поосторожней пойдут. Отстанут.
Сказал, как вставил. И снова не при чём. Скандалит, задирается и поёт. И ведь опять в точку! Растяжку вместо себя – шанс. И Дорошину даже стало немножко стыдно.
– А ты ничего, – неопределенно протянул он. – Шаришь!
– А то! – согласился сапёр.
И подставил карман, из которого вывалилась среди прочего тугая, гитарной струной скрученная растяжка. И Дорошин с удовольствием её в самом узком месте поставил. Последней «эфки» не пожалел, усилил для убедительности второй, но всё равно не успевал. Каких-то минут ему не хватало, какого-то мгновения. Когда позади ахнуло и с сухим треском рассыпалось, они были только на середине, и на последний рывок ничего не осталось.
Круглов хрипел, у Макеева пошла горлом кровь, и темная какая-то, нехорошая. «Свалятся!» – ужасался Дорошин. – «Ей-богу свалятся! Троих ни за что не вытащить!» И чувствовал, что самого заводит от слабости вправо и перетягивает своей тяжестью автомат. Но сапёр был уже там, в горловине, и, взобравшись на камень, приплясывал:
– Река! Река! Рвите штаны, мужики, река!
И какой-то свежестью пахнуло в лица, послышался снизу неясный шум. И такая это была свежесть, такой шум, что они поднажали. Влезли на карачках в горловину и только там повалились. И когда сзади запоздало забарабанило и зашуршало по камням, они уже снова были в каньоне. И тут уже Дорошин не торопился. Обложился, как следует, и обстоятельно, со вкусом, отстрелял пустошь.
– Хорошо! – одобрял сапёр. – А вон ещё справа таракан ползёт. И того прибери за камушком. Да планку передвинь, дальнобойщик!
– Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!
И, загнав всех обратно, Дорошин поднялся.
– Шаришь! – окончательно определил он.
И замер. Никакой реки позади не было. Камни, обкатанная весенней водой галька, и ничего.
– Ну, ты гад! – невольно восхитился он.
– Психология, – горделиво объяснил сапер. – Да бросьте вы, мужики, из-за штанов! Начальство новые купит.
И целый час никто не думал об усталости и не вспоминал о воде. Все без устали и с удовольствием материли сапёра. И Дорошин был рад, потому что почувствовал: не отстали «духи», не отошли. Незаметными, серыми камушками висят над душой. Заметил краем глаза, как странно переместились эти камушки с одного склона на другой. Но всё равно – шансы всё-таки подравнялись. Теперь и у них не сахар, и им идти не порожняком. Нагрузил он их под завязку.
А река действительно приближалась. У воздуха появился запах, особенный какой-то, утренний. Галька под ногами становилась всё мельче и переходила местами в зернистый песок. И когда река за поворотом открылась, Дорошин даже не поверил, – так много было воды и совсем рядом. Оказалось, давно шумела, только он не слышал. Пологий, зернистый склон тянулся к речному броду, террасами спускалась с того берега яркая зелень. И, увидев её, Дорошин втопил, чтобы не дать молодым нахлебаться и свалиться от избытка воды. И вдруг остановился так резко, что Макеев отлетел, отброшенный ударом назад, и рявкнул:
– Стой!
Проржавевший, покосившийся флажок торчал перед ним из песка и всё объяснял – поле. Как баранов, как скотину прогоняли через поля! Живым тралом, чтобы пройти по следам в тылы! И, наверное, не первое это было поле, просто везло, но что совершенно ясно, – последнее. Потому что их всё равно прогонят и с удобством из-за камушков перебьют. И назад ходу нет – приехали.
– Вот сволота! – сплюнул в сердцах Дорошин.
– Тампон, амба! – оцепенело подтвердил Крюков.
Вывернул неторопливо карманы – фотографии, письма какие-то и бумажки, – и, сложив аккуратной кучкой, поджёг. Письма съежились на огне и вспыхнули, фотографии сворачивались чёрной трубкой. Молодые не поняли, опустив «тяжелого» на песок, затоптались. Почему привал, когда вода и рукой подать? Потом поняли и растерянно переглянулись, лица у всех стали серыми и от общей тоски одинаковыми. Но всё равно молодцы, не скисли. Круглов только судорожно вздохнул и сунул в костерок новенький, не затертый долгой службой билет. А Макеев огляделся и старательно, как на карантине, принялся устанавливать свой ПК. Не учили на карантине, как нужно стреляться, учили только стрелять. И глядя на него, Крюков затосковал:
– Может шомполами как-нибудь протыкать, а? – Но и сам понимал, – легче сразу ногами, и обреченно вздохнул:
– Сапёрика бы нам, сапёра!
И все невольно посмотрели на сапёра. Украдкой посмотрели, исподлобья, но все. Тот сосредоточенно молчал, пыхтел важно услужливо вставленной сигаретой, и думал. Потом как-то болезненно от её дыма поморщился и сплюнул:
– Вяжи шомпола, салаги!
И ему сразу и с необыкновенной быстротой связали. И встали в полной готовности, и взвалили на Крюкова «тяжелого». Все чувствовали себя сволочами. Понимали, что раненый, и шомполами совсем не то, но ведь не было выхода, а сапёр был, и он им издалека кричал:
– Со-олнечный остров, ска-азки – обман!.. Поливанов, мать твою, в след иди! Со-олнечный остров скры-ылся в туман!
И они шли, стараясь не спотыкаться и боясь, что вот ещё один шаг и скроются. Иногда сапёр останавливался и разгребал под ногами песок. Черные резиновые крышки проступали наружу, и на солнце мгновенно делались серыми. И они с замирающим сердцем их обходили. А Дорошин снова их присыпал и тащил по следам палатку.
– У, сволота! – урчал он. – Я вам устрою след!..Прямиком на тот свет!
И ждал, что вот-вот рванет. Или у него под руками, или впереди, где идет сапёр. Но рвануло потом, когда они уже сидели в «зеленке» и мокрые отплёвывались от воды. Сначала раз, потом второй. И наступила тишина, да такая, какой Дорошин в жизни не слышал, прямо-таки гробовая. Только река шумела, и тоненько звенело в ушах. И в этой тишине Круглов испуганно прошептал:
– А я военный билет спалил!
И всех прорвало, приступ неудержимого, судорожного веселья свалил их.
– Ну, всё, хана!
– Суши сухари!..
– Теперь тебя в армию не пустят!
Ощущение праздника и небывалого счастья подхватило их. Они прыгали, смеялись, бестолково размахивали руками, Макеев просто лежал, Крюков утирал слёзы и мог уже только хрюкать. А сапёр отбивал кедами невиданную чечётку и блаженно на всю зелёнку горланил:
– Что, взяли? Съели, сволочи? Подавились? – и грозил в пространство мохнатой лапой. – Леннон жив! Бессмертен Макаревич! Понятно? Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!
А Дорошин улыбался, как дурак, и тыкал его неловко в живот:
– Сапёр, сапёрик, сапёрище!
И вдруг услышал:
– Да не сапёр я, – Копёр! Фамилия такая – Копёр, а сапёр вон он – в палатке лежит!
– Подожди! – не понял Дорошин. – Ты же сам сказал.
– Я и сказал: Копёр. Это ты всё заладил: сапёр да сапёр… Глухомань!
– Так это что… – перехватило дыхание у Дорошина. – Так значит мы… Так это любой мог вместо тебя провести?..
– Нет, – заулыбался тот, – за любым бы так не пошли. Тут именно сапёр нужен. Психология, брат! Понимаешь?
И Дорошин согласился:
– Не пошли.
И попробовал раскурить мокрую, совершенно раскисшую от воды «охотничью». Но сигарета в задрожавших пальцах разваливалась и оставляла на губах табачную горечь.
А по берегу уже шла, осторожно поводя стволом, БМП, прыгали на землю свои, в родном и выгоревшем добела. Наводчик, высунувшись из люка, махал радостно шлемофоном. И, вяло ему кивнув, Дорошин отобрал шлемофон и вышел на своих: сначала на взвод, потом – на роту. Ротный долго и восторженно его разносил. Понятное дело, – обыскались.
– Порядок!.. Норма!.. Хоккей!.. – отстреливался Дорошин.
И вдруг в эфирных шумах различил:
– А самострела, самострела ты сдал?..
И не понял:
– Какого самострела?
– Да этого, как его, Копёра, что ли, или Копра?
– Сдал! – растерянно повторил Дорошин. – Сдал!
И вдруг вспомнил: Копёр – тот самый, единственный из разведки. И в изумлении обернулся. Тот сидел в люке и лучезарно всем своим чумазым лицом улыбался. И впервые к нему присмотревшись, Дорошин увидел, что не так уж ему и весело: глаза ввалились, растрескавшиеся губы сочились кровью.
– Зачем, зёма, зачем? – не поверил он. – Это же дизель, тюрьма!
– Да как ты не понимаешь, старшой? Это же кайф – тюрьма! Охраняют, заботятся, берегут, сами выведут, сами проведут. Леннон жив, понимаешь? Бессмертен!
И Дорошин понял. Спрыгнул тяжело на землю и дал отмашку. БМП, лязгнув люками, отошла, закипела траками в мелководье и скоро за поворотом исчезла. А Дорошин всё ещё стоял и ошеломленно смотрел ей вслед.
– Сдал, – бормотал он, – сдал.
И тряс беспомощно головой. Но в голове от этого все равно не вмещалось и становилось ещё больней.
А из «зеленки» вывалился и заспешил к нему угрюмый, взволнованный Крюков.
– Ну? – спросил Дорошин, приготовившись к тому, что или десантура наехала, или припухший танкист, и что, стало быть, вечером нужно идти на «разбор».
Но Крюкова волновало совсем другое:
– К Макаревичу ходил в третий взвод. Говорит, убили Леннона, придурок какой-то из ствола завалил!
– Что? Леннона? – скривился Дорошин и возмутился. – Врёт! Жив-здоров и песни поёт! А что подранили его, так это верно. Просто скрывается теперь… от придурков.
И Крюков завистливо вздохнул:
– Ну, хоть там хорошо! А то я всё ношу, ношу, а они умирают… А точно?
– Леннон жив! – приказал Дорошин. И глядя на свою задубевшую от крови, просветлевшую «медицину», подумал: «Господи, и какая это тоска – психология!».
Ностальгия
Никак не удавалось батальону пожить без войны. Неделю только постояли на блоках – и снова вперёд. Вроде бы уже и горку взяли, и перевал прошли, а всё равно: ночью фейерверк, днём прочёска. На выносных постах работали так, что третий взвод запарился чистить стволы. Матвиенко и не чистил: колотил изо всех сил стволом о камень, пока из него сам собой не высыпался нагар. А потом Дорошин колотил его по загривку с той же целью – почистить и привести в порядок «извилину». Но старались они оба совершенно напрасно. Извилина оставалась прямой, ствол грязным, но, как ни странно, рабочим. С темнотой всё начиналось по новой, и автоматы за ночь обрастали так, что непонятно было, как из них ещё можно стрелять. Но, оказывалось, ничего, можно. И батальон стрелял до изнеможения и мучил тылы требованием боекомплекта, который тоже подвозили с большим треском и потому не всегда.
И вдруг прекратилось. Замерла канонада, рассеялся многодневный, слоистый дым. Десантура как-то особенно удачно прошла на гребень, и вся война перекочевала туда. На гребень ушли пушкари и скандальные, пропитанные солярой, танкисты. В «зелёнке» наступила звенящая тишина, под стеной зажурчал бесшумный прежде арык, а в винограднике совершенно явственно запели птицы. И вообще, выяснилось, что уже осень, и в садах появились кое-где золотые заплаты. Воздух посвежел, осела пыль, и третий взвод решил, наконец, пожить, – как следует, решил, на широкую ногу.
Шагать, правда, приходилось осторожно, жили преимущественно на крышах, потому что вокруг были мины, а прикомандированные сапёры кончились. Все окрестности были украшены размашистой, нацарапанной мелом «М», и особенно много их было в винограднике. «М» была на калитках, дувалах и древесных стволах, поэтому по земле старались не ходить, а делали всё как птицы.
На крышах ели, на крышах спали и на землю спускались только в случае крайней необходимости. А некоторые и в этом случае не спускались, чем доводили Дорошина до белого каления. И он снова бил Матвиенко по загривку и безуспешно прочищал «извилину»:
– Ты видел, что это каска? Ты знал, что моя?! Ты человек или кто?..
– А чё, воробей? Я на лету не могу.
– Ну, я тебя научу! – И учил ко всеобщему удовольствию и восторгу.
А в остальном тихо: птички, воздух и арык. Вот такая настала красота. Комбат чихал, батальон слышал. Крыши были сплошные, плоские, и по ним можно было запросто сходить в гости, что в первую очередь и сделали. За две сгущёнки выменяли у соседей сапёра, и тот расчистил под стеной пятачок. На пятачке расставили квадратом броню и натянули брезент. Место для начальства получилось не место, а Ставка Верховного. Расположились, осмотрелись, разобрались. Наварили в патронных цинках супу и наелись. Потом завалились на крыше спать и совсем было уже что-то разнежились, совсем задремали, и вдруг почувствовали – запах. Неуловимый какой-то, неясный, но приятный и щемяще-родной. Какой-то грустью повеяло в воздухе, дразнящей, как цветущий дембель и май. Лейтенант в своей «ставке» заворочался и забормотал сквозь сон:
– И я тебя, Люсь, и я!..
– Это чем? – заволновались на крыше.
– Не знаю, на свадьбах так пахнет!
– Да нет, после сессии!
И тогда все проснулись и стали нюхать, но как ни принюхивались, определить не смогли. Пахло то ли дембелем, то ли наоборот. Получалось у всех по-разному, а у Морсанова вообще не получалось. Сказал только, что воняет и голова кружится. А лейтенанту приснились отчего-то отпуск, жена и Крым, причём такой отпуск и такая жена, что прямо-таки невыносимо потянуло в Крым.
– «Агдам»! – догадалась вдруг и охнула крыша.
– Сам ты «Агдам»! Венгерский «Рислинг» по рупь-шесят!
– Хрен вам! «Гымза», молдавское! В плетёнках продавалось!..
Но никакой «Гымзы» поблизости не продавалось ни на разлив, ни в плетёнках. А запах был, и такой это был запах, что на крыше всё заворочалось, задвигалось и застонало:
– Ох, блин, до чего на родину потянуло!
– Какой садюга вино в кишлаке разлил?
– Дожили, от сухой жизни глюки пошли!..
И поскольку глюк оказался массовым, то решили разобраться, откуда, но не разобрались, потому что запах был отовсюду. Его источали горы, стены домов и даже арык. А сходить и поискать было нельзя. Сходил на прошлой неделе один, а принесли половину, – лейтенант видел и рассказал. Сапёр за две сгущёнки расчистил пятачок, а за всё захотел ящик, который давно и безнадёжно съели. Да тут ещё Кременцов рассказал, что в ту войну выдавали норму, бесплатно и каждый день. И наступил полный сквозняк. Всех сразила внезапная ностальгия. Было ясно, что война не та. Лежали, постанывали и томились:
– Господи, и за что нам истязание такое?
– Ну «Агдам», чистейший «Агдам»!..
– Застрелюсь, принципиально застрелюсь!
Поливанов почти рыдал, Самсонов грыз в исступлении сухари и сгрыз всё, что не успели убрать, а Матвиенко рухнул в задумчивости с крыши. Но его, посовещавшись, решили не поднимать, а предложили не рыпаться, а ждать до утра. Матвиенко и не рыпался: лежал себе тихонько, ворочался и вдруг, уже на рассвете, заорал:
– Нашёл, мужики, нашёл!
Но поднимать его всё равно не стали, потому что уже и сами нашли. Стояли в изумлении, озарённые солнцем, и в полном потрясении молчали. Никакой садюга вина в кишлаке не разливал, – оно само везде было разлито. Вся земля под ногами была густо усыпана прокисшим, раздавленным виноградом. Сами же его на штурмовке и раздавили, только в спешке не заметили, а теперь заметили, и оказалось – вино. И сразу всё стало ясно: средство от ностальгии висело гроздьями до земли. Осталось только его достать.
– Кто пойдёт? – спросил осторожно Полосков.
И наступила тишина. Каждый соображал, во что обойдётся сходить, и понимал, что не рупь-шесят.
– А чего ходить, когда Мотя там? – сообразил вдруг гениальный Самсон.
И все радостно загалдели:
– Точно! Он же с вечера там лежит!
– Если лежит, значит, можно!
– Главное – собирать, где упал!
И весь взвод, свесившись с крыши, взволновано засюсюкал:
– Мотя, ты как?
– Ты когда упал, до арыка докатился?.. До самого?.. А потом?..
– Мотик, мы сейчас, только задание есть.
И на крыше забурлила бесшумная и сразу повеселевшая жизнь. Мешки соорудили в два счёта. Застегнув на все пуговицы, стянули через головы «хб» и завязали рукава. Вместо верёвки приспособили снятые сапёром растяжки, и работа закипела. Вино давили там, где варили суп и сливали в канистру, для чего вылили из неё воду и потом мучились без неё целый день. Мотю в горячке снова поднять забыли, но к обеду вспомнили, подняли, и он сходу всех обломил:
– Да вы чё, оно до градуса через неделю дойдёт!
А недели никакой не было: через трое суток нужно было сдавать позиции. И всем захотелось сбросить Мотю обратно.
– Разве сахару, – забеспокоился он и опасливо глянул вниз. – И дрожжей.
На том и постановили, повеселили и снова взялись за дело. Дрожжи оставались с тех пор, как сами пекли хлеб, сахар наколупали из коробок «нз», а лейтенанту решили не говорить. Взводный, конечно, человек, но не совсем, потому что правильный, а вина по правилам не полагалось: меньше знает – лучше спит. Постановили: пусть спит. А сами спать не легли – выставили канистру на солнце и стали ждать, но недолго. Сразу выяснилось, что трое суток – срок совершенно невыносимый. Вынесли два часа, добавили сахарку и снова застыли в ожидании. Каждый любовно поглядывал на ребристые жестяные бока. И что-то там, вроде бы, уже начиналось, закипала какая-то неизвестная жизнь. Но к вечеру стало известно, что и трёх суток у батальона нет, а есть только сутки, чтобы собраться и уйти на рубеж. Пришлось добавить дрожжей, а после совещания и сахару, так, что утром в канистре уже что-то булькало и шипело. Из горлышка пыхало чудесным и всем родным, и каждый нюхал и предвкушал:
– Вот она, жизнь!
– Естество своё берёт!
– Меняю вторую пайку на пачку сахара!
Но на пачку, конечно, не соглашался никто, даже те, кто в жизни никогда не пил: теперь они хотели, как все, и гневно подобные предложения отвергали, вспоминая, как целую рюмку выпили на выпускном и даже две на отправке.
– Кто же на отправке рюмками пьёт?
– Понюхал – и отвали!
– Сам отвали! А я, может, полтора года не нюхал!
И с трудом, превозмогая себя, отваливали, по-собачьи урча и шмыгая носами.
Чтобы не светиться, нюхать подходили по очереди – у лейтенанта тоже был нюх. А чтобы только нюхали, выставили на охрану Морсанова, для которого всё это продолжало вонять. И решили уже, кто будет первым, Дорошин, конечно. Он сам и решил, но попробовать не успели. Коварно подошли броня и приказ отправляться в дозор. Канистру пришлось закрыть. Её заботливо, чтобы не прострелили, привязали к корме, но тут вышла осечка. Броня пошла головной, и началась мука. Весь день канистра раскачивалась перед глазами, дразнила, булькала и звала, а приходилось не замечать. Она вроде и была, а вроде нет, потому что рядом с ней сидел лейтенант, и он-то уж точно был. Поэтому все старательно и сурово смотрели вдаль, да и нужно было смотреть. На третьем километре шарахнул пулемёт, какой-то паразит пустил гранату, и все в ужасе за канистру продавили «зелёнку» так, что комбат в восторге по рации прокричал:
– Молодец, молодец, Шерстнёв! Так держать!..
И пришлось держать так до вечера.
На перекрёстке долго и нудно лежали в арыке – ждали вертушек, потом поднялись и завязли на минном поле. Миносяну оторвало колесо, и пришлось снова ставить и ждать. И хорошо ещё, не потеряли канистру. Каждый проверил и подтвердил:
– Нормально, выше прошло!
– Вот сволочь! Чуть ниже – и всё!..
– Да гасите вы, черти, справа! Пробьёт ведь! У, снайперюга! Пробьёт!..
Однако, обошлось, – не пробили, хотя нервов извели килограмм. И к тому же, всё время хотелось. Домой вернулись взъерошенные, усталые и чуть живые. На крышу лезть не было сил, есть «красную рыбу» тоже. А нужно было ещё ставить в коробку броню, снова натягивать брезент, чистить стволы. Да ещё контуженный Миносян не слышал и никак не мог вписаться в квадрат. Неудачный вышел день, нехороший. Но вспомнили, что канистра цела и утешились. А день-то получался ничего! И силы откуда-то появились, и азарт. Брезент растянули в два счёта, на счёт три сняли канистру и удивились: канистра выглядела как-то странно. Дорошин посмотрел и попятился. Жестяные ребристые бока ужасающе раздуло. Прекрасная прежде канистра стала похожа на безобразно распухшую подушку. Она была как на восьмом месяце, и вокруг неё сразу образовалась пустота.
– Может, сапёра позвать? – робко предложил Кузнецов.
– Ага, и делиться! – встревожился Кременцов и растревожил всех: делиться по-прежнему не хотелось, но и к канистре подходить не хотелось тоже. Молчали, думали и потели. И тут пришёл от комбата лейтенант, усталый и злой. Сбросил каску, засучил рукава:

