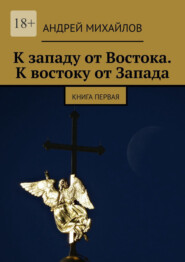
Полная версия:
К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая
Невский – «всеобщая коммуникация» и «главная перспектива»
Невский остаётся Невским независимо от погоды, времени года и эпохи. Он столь многомерен, что каждый может легко отыскать себе на нём своё, не занятое ещё никем пространство. Кого-то влекут расположенные здесь и рядом торжища – Гостиный двор, Пассаж, ДЛТ. Кто-то движется между двумя величайшими музеями планеты – Эрмитажем и Русским. Кто-то покупает в кассе-погребке билет и спешит в Александринский театр или Филармонию, или Комиссаржевку, или в Малый Оперный, или в Театр эстрады. А иной дорвётся до книжных сокровищ Дома книги, Лавки писателей или антикваров Литейного (это совсем рядом, за углом, там же, где «Академкнига») и вольётся вновь в суету Невского много часов спустя – счастливый, нагруженный, пропахший сладковатой книжной пылью и отстранённый от всех и всего.
Многие просто гуляют по Невскому без особой цели. Он ведь так и задумывался – для променадов. Когда-то здесь можно было запросто встретить прогуливающегося Александра I и, более того, Александра Пушкина. Есть даже такая знаменитая, похожая на китайский свиток многометровая гравюра Садовникова, на которой главный герой – Невский проспект с гуляющей по нему публикой. А помните, великолепное эссе Гоголя, которое тоже называется «Невский проспект»?

Так как для большинства приезжих город начинается и заканчивается на Невском, то несложно понять, какая тут временами творится толкотня! Потому душевный совет всем, желающим восхититься и подпитаться от этой великолепной улицы (которая сама – и произведение искусства, и собрание искусств), – не поленитесь выйти сюда летом, в пору белых ночей… до восхода солнца.
Зима… Театры торжествуют
Обилие водных зеркал делает город многоэтажным и многомерным. Каждый дом, каждый дворец и каждый столб, отражённый гладью канала, речки или самой Невы, становится по крайней мере вдвое выше. Повисая в пространстве и обретая продолжение снизу, эдакие неясные корни, уходящие куда-то в чёрную глубь воды. Вы думаете, Петропавловка вонзилась шпилем в небо? А я знаю, что шпиль её глубоко вонзился в земную плоть! Всё зависит от того, как смотреть.
Но это – летом. Зима, заковывая воды мутным панцирем льда, отнимает у города его перевёрнутую половину. Однако, как известно, если где-то чего-то убудет, то где-то непременно прибавится. Прибавляется «где-то» в музеях и театрах.
Питер стоит того, чтобы периодически бывать в нём ради его музеев и театров. Количество их исчисляется многими десятками, а качество и разнообразие ставит город на первые места в рейтингах мировых культурных центров. Потому истинные эстеты едут в Петербург зимой, когда в театрах – сезон, а в музеях – относительное безлюдье.
Непосвящённые даже не представляют подлинного обилия питерских музеев и вряд ли знают о том, какие собрания есть в городе-музее. К примеру – Музей Арктики или Почвоведения, или Шоколада, или Артиллерии. Это – из публичных. А сколько уникальных коллекций разбросано по всяким научным институтам и вузам! Картинная галерея Академии художеств, собрания автографов Пушкинского дома, естественнонаучные кабинеты Университета. А дома-музеи, которым здесь и числа нет?
Планируя поездку, неискушённые часто недооценивают и размеры многих питерских музеев. К примеру, на Эрмитаж отводят полдня. А за полдня Эрмитаж можно пробежать лишь ускоренной рысцой, да и то, если не читать этикеток. Чтобы вывалиться к концу пробега на улицу – обессиленному, опустошённому и остро нуждающемуся в релаксации, рекреации и репатриации.

Театры в этом отношении гуманнее. Быстрее, чем кончится спектакль или концерт, из них не выбегают. Да и сидеть в кресле всё же комфортнее, чем ходить или стоять. Единственная опасность, что уютная атмосфера, вкупе с высоким искусством, так расслабит, что вы не удержитесь не только от сна, но и от храпа.
Обилие театрально-концертных «площадок» в городе-театре увеличивается с каждым годом. И не только за счёт открытия новых, а во многом – из-за возрождения как раз-таки старых залов, функционирование которых было прервано в эпоху исторической борьбы хижин с дворцами. Сегодня в Питере вновь загорелся свет в рампах таких придворных и дворцовых театров, как Эрмитажный, Строгановский, Юсуповский. Ну а вообще-то количество ежевечерних спектаклей и концертов, а главное – их разноплановость могут вызвать чувство глубокого удовлетворения даже у самого взыскательного и извращённого зрителя.
Город времён и народов
А ещё не нужно забывать, что культурно Петербург раскинулся куда шире своих официальных административных границ. Дворцы-музеи Петродворца, Ораниенбаума, Гатчины, Пушкина и Павловска – неотъемлемая его часть. И они тоже хороши именно во внесезонье. Хотя лично я предпочёл бы зиме – осень, когда упоительно празднично выглядит окружающая эти архитектурные жемчужины оправа. Знаменитые пригородные парки Питера, Летний и Михайловский сады, а равно и старинные кладбища бывшей столицы Российской империи будто и созданы для того, чтобы сверкать всей гаммой осенней листвы: золотом клёнов, бронзой дубов, медью берёз.

Когда-то, в дореволюционно-патриархальные времена, русская аристократия осенью специально ездила в Павловский парк. Именно в пору листопада, дабы побродить между чёрных стволов и «пошуршать листвой». Это был стиль! Сравнимый с любованием Луной у китайцев или цветущей сакурой у японцев.
Но и весна, несмотря на её капризность и непостоянство, преподносит свои прелести и неожиданности. Те же статуи Летнего сада непередаваемо живыми смотрятся на фоне прозрачной зелёной дымки, в которую окутывает старые деревья возрождающаяся листва. Примерно в это же время, где-то в середине мая, в городе можно наблюдать явление, сопоставимое по эстетизму с красотой белых ночей и шуршанием листвы. Это, когда по чистым уже рекам и каналам начинает вдруг нести лёд с Ладоги. Все водотоки вдруг исполняются шёпотом теней – тихим шелестом истончённых льдин. А мосты и набережные переполняются наблюдающими. Большинство заворожённо зрелищем. А кто-то ищет глазами знаменитых ладожских рыбаков, которых каждую весну десятками уносит на льдинах в открытую воду.

Ну да бог с ними, с фанатами подлёдного лова. Хотел бы остановиться не на них, а ещё на одной черте города, которая делает Петербург одинаково близким и интересным для всех, кто бы сюда ни приехал. Он – одна из Столиц Мира. Потому что Мир этот представлен в нём во всём своём разнообразии и полноте. Здесь, в Питере, легко чувствуешь себя, как в той пресловутой комнате китайского мудреца, не выходя из которой можно запросто изучать Вселенную. Рождённый волей Петра как наш ответ кичливой Европе, этот необыкновенный город впитал в себя квинтэссенцию культурных прозрений множества стран и народов. Впитал и переработал сообразно российской ментальности и природной широте, свойственной природе необъятной России.
Архитектурно город на Неве, а его строили лучшие европейские архитекторы и наиболее талантливые русские зодчие XVIII—XIX столетий, это некая выставка достижений градостроительства минувших веков. Как столица многонациональной империи, Питер вобрал в себя и массу различных идей и верований. Здесь наряду с христианскими церквями всех конфессий можно найти и чудесный буддийский храм, и великолепную мечеть, и синагогу. Как один из научных центров, откуда велось изучение планеты, он обрёл и массу артефактов, свезённых сюда со всех концов Земли.
…Во время последнего «ритуального оббега» Эрмитажа я натолкнулся на экспозицию коллекции, о которой знал, но которой никогда ранее не видел. Это – фрески, вывезенные русскими ориенталистами в конце XIX века из Восточного Туркестана, в частности – из Турфана. Я подивился тому, что увидел. Потому что в пещерах древних монастырей Бейзеклика, например, подобного великолепия нет и в помине. Чтобы изучать древние буддийские фрески, нужно, оказывается, ездить не в Огнедышащие Горы, а сюда – в Эрмитаж.
Потому не покривлю душой, если скажу, что Санкт-Петербург, это не город. Это – весь мир в миниатюре.
Величайшее озеро Европы
Самое большое озеро Европы – Ладога, или Нево, как называли его древние новгородцы. Студёная, пропахшая тиной, рыбой и русалками вода заполняет огромную тектоническую впадину, вылизанную Великим Ледником. Для того чтобы наполнить Ладожскую котловину, Волге понадобилось бы четыре года. Но вот уж чего-чего, а воды здесь, в центре Озёрного края, не меньше, чем суши. И почти вся она, истекающая из мириад озёр, болот и речек, стремится сюда, в Ладогу…
Точка преткновения
Есть в Ладоге какая-то чарующая сила и манящая загадка. Давно подмечено, что масса холодной пресной воды, источающая волны спокойной и сильной энергии, вообще-то очень сильно воздействует на стоящего рядом человека. Загадочный «шёпот Земли», может быть, всего отчётливее и слышится через такие вот природные линзы-усилители. Замечу, что, в отличие от кишащих жизнью и бурлящих соблазнами водоёмов тёплых стран, моря и озера Севера – вообще-то куда более подходящее место для приватных бесед с Вечностью.

Ладога – больше, чем географический объект. Она – точка пересечения и центр приложения разнонаправленных сил, течений и интересов. Она одна из тех вечных граней, на которых, по большому счёту, и происходят все значительные пространственно-временные подвижки, сдвиги и прорывы. Здесь очень явно видно, как природа создаёт цивилизацию.
…В этих однообразных и монотонных краях трудно найти что-то более несхожее, чем северный и южный берега Ладоги. На «севере диком» – типичный кусок Скандинавии, с соснами по камням, шхерами-фьордами, островами и бездонными омутами, в которых водится не только благородный сиг, но и морская жительница – нерпа. Юг же – плоский, мелководный, с торфяниками и берёзами, бревенчатыми избами и пашнями – типовая Россия.
Причины такого грубого раздела лежат в самых тёмных глубинах сырой земли, где песчаники и известняки Русской равнины столкнулись с сиенитами и гранитами Балтийского щита. Можно сказать, что геологическая древность спорит тут с древностью космогонической – напичканные отпечатками окаменелые волны первобытного моря, плескавшегося в те времена, когда жизнь ещё не дерзала выползти из вод на неприветливую поверхность, и кристаллические свидетельства эпох, когда на остывающей после творения планете вообще не было и помину никакой жизни.
Однако это всё – дела давно минувшие. Но, как знать, не они ли определили те процессы, которые волновали бурные ладожские волны во времена исторические? Ведь, по большому счёту, именно тут, в Приладожье, долгие века находилась та единственная точка, в которой Древняя Русь напрямую (без посредников) соприкасалась с Европой. И вовсе не случайно именно здесь беспокойный Пётр так настойчиво рубил своё пресловутое «окно». Ни одного другого прямого пути к западным ценностям, кроме Ладоги-Невы через Финский залив, у России просто не было (если не считать проблемного и далёкого Беломорья). Отсюда – все те коллизии и страсти, которые кипели на этих, казалось бы, задворках Европы в течение многих веков.
Ладога – это не просто точка на карте, это точка приложения двух великих, но разнонаправленных сил. Точка преткновения.
Ключи и заключения
Зримым центром этой точки преткновения был маленький островок, «ключ», запиравший (или открывавший, опять же – откуда смотреть) на запор возможности любого искусственного движения между Востоком и Западом. Орешек – Нотебург – Шлиссельбург. Словно кость в горле Ладожского озера, торчащая при истечении всех его вод в Неву, остров-крепость стал международным контролёром ещё во времена Великого Новгорода.

В зависимости от того, кто владел ключом-островом, можно было рассматривать обоснованность «европейских претензий» России. Так что, когда шведы с помощью французских наёмников в Смутное время отобрали Орешек, и он на целое столетие стал Нотебургом, надменная семья европейских народов вообще позабыла про то, что где-то на дремучем Востоке континента у неё есть вечная падчерица – нелюдимая и нелюбимая. Так что старушка Европа к началу XVIII века стояла в привычной уже позе – гордо раскорячившись к востоку своим обвисающим задом. Нужно было видеть её лицо, когда задорный русский царь ткнул в этот неприкрытый тыл своим потешным штыком!
Считавшийся непреступным Нотебург был взят Петром в течение нескольких дней в октябре 1702 года и переименован в Шлиссельбург («Ключ-город»). «Зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен!» Эту фразу из письма царя-бомбардира западные историки приводят, как пример солдафонского бахвальства Петра Великого. Не вспоминая, однако, что во время последней войны немцы пытались взять Шлиссельбург в течение всей Ленинградской блокады. Да так и ушли ни с чем. Правда, от самой крепости остались лишь каменные останки построенных ещё новгородцами стен…
…Чтобы попасть в Орешек, нужно нанять катер в Петрокрепости, на причале, что совсем недалеко от памятника Петру Первому. Лишь только минуются шлюзы старинных «ладожских каналов», построенных когда-то вдоль южного берега Ладоги в интересах непрерывного судоходства, как взгляду представится необыкновенный водный простор и островок с серыми стенами посередине.
Старые крепости на северо-западе России – олицетворённые твердыни, напоминающие своими толстенными стенами и приземистыми башнями скальные массивы. Копорье, Старая Ладога, Изборск, Иван-город, Карела и Орешек – их камни испытывали на себе силу всех передовых военных технологий многих веков – от рыцарских таранов до крупповских пушек. И выстояли, сохранились. Чего нельзя сказать о том, что они защищали – внутри большинства «твердынь» сегодня царит кладбищенская тишь, нарушаемая лишь скользящими тенями экскурсантов и паломников.

Не исключение и Орешек-Шлиссельбург. Ныне его стены охраняют в основном рукотворное месиво из добротных красных кирпичей, в которых с трудом угадывается церковь, казармы, склады. Но это – в материальном плане, если шире, то эти стены хранят много больше.
Единственное, что восстановлено внутри после Отечественной войны – небольшой тюремный блок, который в советские времена был местом поклонения подвигу несгибаемых борцов за счастье трудового народа. Ничто не вызывало сомнений, пока этот самый народ не узнал горькой правды про репрессии 1930-х и масштабы Гулага. Ныне те 69 революционеров (и приравненных), которые содержались тут с 1884 по 1906 год, воспоминаются разве что с горькой иронией.
Кстати, перед тем как стать политической тюрьмой, Шлиссельбургская крепость, потерявшая своё оборонное значение после постройки Петропавловки и Кронштадта, некоторое время была классическим средневековым казематом, куда запрятывали неугодных родственников и злосчастных сановников. Здесь содержались жена (Евдокия Лопухина) и сестра (Мария Алексеевна) Петра Первого, здесь прозябал до самой смерти неудачливый император Иван Антонович, здесь же закончил свои дни неугодный член верховного совета Голицын.
Это потом уже тутошними сидельцами стали всяческие оппозиционные журналисты вроде Новикова, идеалисты наподобие пушкинских друзей Пущина и Кюхельбекера, нигилисты типа Бакунина и отмороженные политическими идеями террористы образца старшего Ульянова, казнённого здесь вместе с полутора десятком соратников «по борьбе». Поколения, изучавшие историю партии, помнят крылатую фразу Ульянова-младшенького, брошенную под впечатлением смерти брата. «Мы пойдём иным путём!» Смысл иного пути – сначала власть, а уж потом террор (а не наоборот, как у народников и эсеров).
Несмотря на мизерность репрессивного значения крепости, её мрачная слава делала из неё всемирное пугало. Смелые иностранные туристы специально приезжали в Шлиссельбург, одноименный городишко на южном берегу Невы (ныне – Петрокрепость), чтобы содрогнуться, взглянув издали на серые стены острова-тюрьмы, а по возвращении в родную Европу с упоением заняться любимым делом праведного европейца – предаться гневным стенаниям по поводу прав человека в России. По простоте своей, для убедительности, величая Шлиссельбургскую крепость «русской Бастилией».

По условиям содержания островная тюрьма была действительно самого строгого режима. Хотя заключённые и наладили внутреннюю связь, от внешнего мира они были отрезаны настолько, что даже о Русско-Японской войне догадались через полгода после начала сражений. Правда, так и не сообразив толком – с кем война. Психическая неустойчивость и истеричность, свойственные психотипам истинных революционеров, террористов и ниспровергателей, в условиях такой полной изоляции и бездействия не позволила всем осуждённым дождаться свободы. Кто-то сошёл с ума, кто-то покончил с собой.
Но Шлиссельбург подарил и другие примеры, ставшие хрестоматийными образцами проявления человеческой стойкости. Таких, как Николай Морозов, отсидевший в крепости почти четверть века. На свободу Морозов вышел не только с чистой совестью, но и с переполненной головой. Знания, полученные им путём самообразования в страшной тюрьме, сделали его одним из самых выдающихся интеллектуалов и энциклопедистов начала XX века. Во время заточения он не только самозабвенно учил языки (в том числе и «мёртвые»), но и писал объёмные и оригинальные труды по физике, истории, астрономии, литературе, метеорологии. Так что присвоение Морозову впоследствии звания народного академика стало действительным признанием его заслуг, приобретённых в период заключения в Шлиссельбурге.
Варяги и греки озера Нево
Но хватит о суетном, тем более что у нынешних экскурсантов, в отличие от бывших узников, всегда имеется выход, по которому можно пройти сквозь стены – на стрелку Орехового острова. А там все эти страсти-коллизии забываются сами собой. Потому как грудь тут же переполняется наисвежайшим озёрным воздухом, а взор растворяется в лёгком тумане невообразимой ладожской дали. Единственные нарушители покоя – громадины сухогрузов «река – море», которые, как будто на параде, беспрестанно скользят мимо острова Кошкинским фарватером. Следуя, собственно, теми же путями, по которым плавали драккары викингов и ладьи славян ещё в те века, когда народы ходили «из варяг в греки».
Интересно, что посудинки, на которых плавали древние, дожили на Ладоге практически до наших дней. Во всяком случае, доплывшая до XX века ладожская сойма была очень похожа на те суда, которыми пользовались новгородцы, а петровские галиоты были прямыми наследниками тех самых голландских парусников, которые привёз из зарубежного турне царь-плотник. Ещё сто лет назад они и были главными перевозчиками в бурных волнах моря-озера, пенные валы которого при лобовом столкновении ветров достигают, кстати, весьма солидной высоты в 5—6 метров!

Но основная масса грузов двигалась уже не по штормовому озеру, а протянувшимися от устья Свири до истока Невы каналами, строить которые начал ещё всё тот же неуёмный Пётр. Так что основной тягловой силой местного флота была конная – источник не только движения, но и частых эпидемий сибирской язвы в Озёрном крае. О мореходных достоинствах этой флотилии можно судить по тому факту, что большинство «судов», по достижении Петербурга, просто разбирались на дрова.
…Остатки Старого Ладожского канала сохранились до сих пор и представляют собой ныне сильно заросшую и обмелевшую канаву, кишащую мелкой рыбой и задорными лягушками. Однако встречаются ещё кое-где остатки роскошных гранитных мостов и изящных шлюзов, лишь подчёркивающие картину запустения. Их очень любят рыбаки-любители из окрестных сёл и художники-профессионалы из Питера. Но ничто больше не мутит чёрной воды и не тревожит обитателей этого рукотворного болота, к появлению которого приложил руку сам царь…
Два века Ладога оставалась внутренним водоёмом Империи и имела в основном транспортное значение. Но после большевистского переворота озеро вновь стало трансграничным – северо-западная часть его отошла к Финляндии, а юго-восточная осталась советской. Так продолжалось до самой Финской войны. Замшелые остатки знаменитой «линии Маннергейма», подведённой вплотную к берегам Ладоги, ещё и сегодня напоминает грибникам Карельского перешейка о событиях той маленькой, но кровавой войны, которая стала лишь прелюдией к великой бойне, разразившейся здесь год спустя. И Великому Подвигу, который так усердно охаивают ныне «прогрессивные» историки и публицисты.
Во времена Северной войны Ладога стала заветным окном, соединившим Россию с Европой. Спустя два с половиной столетия, во времена Второй мировой, она стала мостом, позволившим выстоять Петербургу-Ленинграду, который так стремились снести с лица земли те самые заветные европейцы. Дорога Жизни – апофеоз ладожской истории. И настолько известный эпизод всемирной истории, что повествовать о нем здесь, всё равно, что писать правила пользования столовой ложкой для посетителей предприятия общепита.

…На заре юности автор вместе с друзьями совершил двухдневный переход по Дороге Жизни – от села Кобона, через Зеленецкие острова, до Осиновецкого маяка. Зимой, на лыжах. Для нас, нескольких юношей 1970-х, это был не просто турпоход. Это было скорее паломничество, дань памяти, естественный порыв, который шёл изнутри, от того природного патриотизма, который был нашей данностью. Тогда ведь ещё не читали смелых произведений современных ниспровергателей и не задумывались о том, что все мы, оказывается, люто ненавидели свою страну и думали только, как бы покруче насолить власти, свергнуть существующий строй и самим свалить куда подальше. Нет, тогда мы просто любили Родину и чтили её историю. Дай Бог современным патриотам хоть половину той нашей искренности и чистоты.
Куда улетели боги?
Раз уж речь зашла о паломничестве, нельзя обойти ещё одну, не столь заметную сторону ладожской природы (или истории?). Здесь, на берегах величайшего внутреннего водоёма Европы, с давних времён селились, сталкивались и сотрудничали племена, очень разные по своей ментальности и целеустремлениям. Финны, славяне, норманны. Потому постоянные рати и непрерывные торговые взаимодействия были вечным фоном культурно-культовых столкновений, проникновений и озарений.
Задолго до того, как варяги встретились тут со славянами, лесные финские племена (карела, водь, весь, ижора и т. д.) уже с незапамятных времён знали, любили и обожествляли Ладогу. О чём свидетельствуют многочисленные петроглифы на прибрежных «лбах» и «именные» камни-алтари древних языческих капищ. Первоначально, пока новые соседи были такими же язычниками, никаких особых теологических конфликтов не было и быть не могло. Но вот Русь приняла христианство, которое даже в своём мягком, православном варианте всё равно отличалось нетерпимостью к любому инакомыслию. И проблема возникла.

Характерен пример ладожского острова Коневец, где расположена одна из древних языческих святынь – огромный 750-тонный Конь-камень (собрат его, знаменитый Гром-камень, лёг вместо постамента под ноги коня Медного Всадника). Когда-то на нём знаменитые финские волхвы приносили коня в жертву своим тёмным духам, вившимся над Конь-камнем в виде огромной вороньей стаи. Пока в самом конце XIV века (времена Куликовской битвы) не появился здесь Преподобный Арсений и не прогнал именем нового бога языческих жрецов, а заодно и их небесных покровителей, которые, поднявшись с волшебного камня чёрной стаей, улетели неведомо куда.



