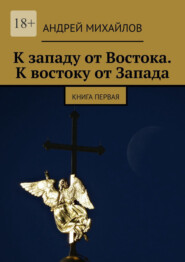
Полная версия:
К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая
Новая история
Мост, связывающий два берега Нарвы, как ни иронично ныне звучит его название, по-прежнему называется мостом Дружбы. Соединяя берега, он разъединяет страны. Вновь, как и прежде, во времена рыцарей, датчан, немцев, шведов тут проходит невидимая, но твёрдая грань между Европой и… не-Европой. Теперь, правда, в отличие от петровских времён, Европа повёрнута к Востоку самыми защищёнными и бдительными своими органами. Ставшая ещё более дряхлой, старушка, однако, может иногда позволить себе и расслабиться, подремать – имея на плече такого верного и бдительного стража, как новая Эстония.
С мостом Дружбы связано 99 процентов всех новостей, распространяемых ныне информационными агентствами про оба города на этих берегах. Пробки и заторы на пропускных пунктах, нарушение правил перехода и контрабанда – вот главный ассортимент событий происходящих ныне у ворот Ивангородской крепости. Но с крепостных стен всего этого не видно. А виден длинный хвост из людей, желающих «пройти в Евросоюз». И ещё более длинный шлейф разномастных автомобилей, двигающихся в ту же сторону.

Но машины – в основном эстонские. Эстонцы любят смотаться за кордон за дешёвым бензинчиком. Чьи люди – понять сложно. По большому счёту – все они тут наши, советские. Кому менее всего нужны все эти границы, визы и погранпереходы, так это рядовым гражданам Земли, не причастным к политике и шлагбаумам-кормильцам. А тем более, когда вот так, как тут, жили-были вместе, в одном городе, одними семьями и вдруг оказались в одночасье жителями двух разных городов, разных стран и даже разных частей света.
Из 17 тысяч ивангородцев несколько тысяч имеют сегодня специальные эстонские визы, которые даются только самым близким, членам семей и позволяют разделить свою жизнь на два государства поровну. Полгода жить в Нарве, полгода – в Иван-городе. Это для россиян. А на той стороне, в Нарве, чуть ли не большинство жителей вообще имеют российское гражданство.
А что до крепостей-супостатов, то на их стенах теперь лишь толпы туристов. Иногда они перекрикиваются между собой.
Столица советской Финляндии
Города – как люди. В основном мелькают перед глазами и навсегда растворяются в крепчающем тумане памяти. Другие, прежде чем кануть в ту же мемориальную мглу, дарят незабываемые эпизоды любви и интереса. И лишь некоторые – их меньшинство – переходят в разряд старых друзей и приятелей, к которым тянет по-прежнему и которые не минешь равнодушно – если и не приехать специально, то уж во всяком случае обязательно сделать крюк, дабы повидаться в очередной раз. Одним из таких городов-приятелей для меня когда-то стал Выборг.
Рог и вымя
…На сей раз, заиндевелый город встретил меня лютым морозом, заснеженными деревьями и ощетиненными сосульками крышами. Долго выкарабкивавшееся из-за горизонта зимнее солнце выбралось-таки и тут же нанизало горбатые улички на холодные лучи своего огненного гиперболоида. Чудовищные тени, отброшенные на сотни метров людьми и машинами, включились в волшебную феерию из отражений, бликов, дымов, отсветов и проблесков.

Словно дождавшись небесной отмашки (несмотря на то, что «рабочий день» давно был в разгаре), горожане заспешили куда-то, заполнив улицы своими торопливыми призраками. Зашевелились, кланяясь по-китайски друг другу, птицеклювые краны в порту. Обладатели не менее картинных носов начали заполнять торговую площадь у старинной Круглой башни. И, как много веков кряду, над городом, поймав долетевшие солнечные лучи, вспыхнул холодным багрянцем старинный замок.
Когда на твоих глазах протекает часть чьей-то биографии, то между тобой и героем устанавливаются отношения вовсе не такие, как со всяким встречным-поперечным. Соединённое с Пространством, Время придаёт миру неповторимо объёмную картинку, в которой, при желании, можно увидеть даже невидимое, смутно угадываемое по теням, шорохам и веяниям. Становятся понятнее и мотивы чужого поведения, и выверты, и реакции.
Собираясь писать о Выборге, я не поленился отыскать свои старые дневники, связанные с предыдущими встречами. Но начать повествование о Выборге всё же прилично со времён куда более ветхозаветных и достопочтенных, свидетелями коих я, увы, быть никак не мог. Однако представить себе то, что происходило тут, на берегах Финского залива, три столетия назад, с помощью дедукции (по теням, шорохам и веяниям) … можно попытаться.
…Начало XVIII века. Над бурными волнами Балтики хлопают паруса и хлюпают вёсла выплывшего откуда-то из необъятных дебрей Русской равнины флота, в воздухе носятся запахи свежего леса и дымного пороха, а ещё выше над всем этим незаметно нависает всё более зримая тень расправляемых крыльев хищного двуглавого орла. Здесь, в устье Невы и опреснённых водах серого Северного моря, разворачивалось одно из ключевых событий мировой истории, которая, как мне упорно кажется, вся зиждется на вечном единстве и бесконечной борьбе двух противоположностей – Европы и Азии, Востока и Запада. Борьбе, породившей нашу цивилизацию.
Стараниями неугомонно-азартного Петра Великого Восток, в лице России, проник-таки здесь в броненосный тыл расслабившегося Запада. Посредством того самого невинного «окна», а вернее – бойницы прорубленной стальным рогом топора-клевца в руках царя-плотника. Впрочем, очень быстро превращённой в широко распахнутые двери лавки. Через которые хлынули в обе стороны потоки товаров, новостей, идей и страстей.
Тогда-то, вместе с Ништадским миром и частью оттяпанной у Швеции Финляндии, в России и оказался Выборг. Старинный замок которого, древняя гордость местного рыцарства, чудился таким неприступным и основательным. Пётр взял его хоть и не с первого раза, но всерьёз и надолго.
Последний замок России
…Средневековый замок Выборга – пожалуй, единственное подобное сооружение, оставшееся в России после отделения Прибалтики, Украины и Белоруссии. Сама Россия здесь, в части извечного соприкосновения с европейскими ценностями и стандартами, издревле строила каменные крепости – фортеции, быть может, не столь дерзкие, но надёжные и куда более практичные в условиях постоянных нападок с Запада. Рыцарский замок – это вообще-то более знак, нежели твердыня.

Белый оштукатуренный тюб главной башни Св. Олафа над каменными стенами, занимающими маленький островок в Выборгском заливе, – замок и сегодня является визиткой и главным историческим нервом города. Внутри нынче музей, самой главной примечательностью которого для меня лично является… вид на Выборг и его окрестности с высоты белой башни Олафа. Зимой, когда заснеженные пространства суши и воды выглядят примерно одинаково, вид этот, конечно, не столь впечатляет, как летом. Так что зимой туда можно и не лазать.
Но летом… Летом взору открывается удивительная картина, составленная из выверенных и смелых мазков – старинные крыши Старого города, вода, окружающая со всех сторон этот город, леса, всюду обрамляющие эту воду загадочной бескрайностью.
Несмотря на то, что на обычных картах Выборг находится на Финском заливе – это не так. Выборг стоит на Выборгском заливе Финского залива, в том месте, где весь берег изрезан узкими и длинными «шхерами», незаметно переходящими в знаменитый озёрный лабиринт, составляющий поверхность Финляндии и Карелии. Великий Ледник оставил после себя в этих местах славные воспоминания!
Именно тут, у Выборга, начинается старый Сайменский канал, по которому до сих пор перемещается в глубь финской территории большое число всевозможных грузов и который так любят посещать туристы. При желании отсюда можно попасть не только на Сайму, но и выйти к Вуоксе, которая, как известно, впадает в Ладогу, а от Ладоги рукой подать до Москвы – «порта пяти морей»…
Что ещё пленяет в этом компактном городке – так это какая-то непривычная нам уравновешенность. Это сложно описать… Ну, вот, к примеру, шумный порт, притулившийся прямо к улицам старого города и, недалеко, компенсируя портовый шум, пейзажный парк Монрепо, тихий и пустынный, похожий на обустроенный лес. Или вот, на крутом берегу залива – бронзовый Пётр (Бог миловал, не работы Зураба Церетели!), взглядом своим сканирующий город почище восходящего солнца. Примерно на том самом месте стоял живой царь во время осады. И на противоположном берегу бухты, на старой Ратушной площади, в противовес русскому монарху, такой же обронзовелый отец-основатель Выборга – шведский рыцарь Торгельдс Кнутссон. Считается, что это он во время очередного крестового похода на карелов в 1293 году заложил тутошний замок.
Бронзовые истории
Когда попадаешь в такой «старый город», как Выборг, то хочется запутаться и заблудиться в его криво-горбатых уличках и проулках. Но заплутать тут сложно – слишком компактен, логичен и понятен Выборг даже для первопроходца. Так что потеряться в его географии можно только с великого бодуна, после гомерического возлияния в историческом ресторане Круглой башни.

История – это не география! Вот где можно плутать всю жизнь, да так и не найти концов. Тем более, когда речь о такой истории, как выборгская, на которую всегда смотрят с двух сторон. Глазами двух противопоставленных бронзовых кумиров, со стороны двух противостоящих миров – Востока и Запада.
Здесь показательна судьба самих памятников двум кумирам, впервые установленных почти одновременно, сто лет назад, – на закате Российской империи. Их судьба – зеркало XX столетия. Как только благодаря гуманисту Владимиру Ульянову (он, кстати, одно время скрывался от правосудия в Выборге) Княжество Финляндское обрело независимость, обезглавленный Пётр слетел со своего постамента и отправился в подвалы замка. Обратно его водрузили спустя 20 лет, после «маленькой, победоносной» Финской войны. Но вскоре ветер опять подул с Запада и бронзовый Пётр, опять свергнутый с пьедестала, опять оказался не у дел. На этот раз, правда, ненадолго – Красная Армия, занявшая город в 1944-м, вновь поменяла минусы на плюсы (или наоборот – откуда смотреть). Пётр был снова восстановлен в правах на постаменте и теперь уже настал черед рыцаря Кнутссона покинуть пьедестал и отправиться в мрачные подвалы своего замка.
И лишь в начале 1990-х бронзовые взгляды обоих кумиров ревниво перекрестились над водами Выборгского залива…
А Ильичу, между делом, тоже поставили памятник. На Красной площади. Красная площадь – хоть и центральная в Выборге, в названии не несёт никакого пропагандистского смысла. Была когда-то площадь Красного колодца. Вода в этом колодце приравнивалась к святой. Но сам колодец приравняли к пережиткам и решили, что вместо него лучше будет смотреться памятник Вождю. Ильича взгромоздили на гранитный пьедестал, а воды попранного Красного колодца устремились в подвалы близлежащих домов. Шутники предлагали проделать внутри вождя трубу, которая решала бы мелиоративные проблемы, но… в каком месте выводить её из бронзы?

И ещё один выборгский памятник никак нельзя обойти в связи с местной историей. Знаменитого Лося, поставленного финнами в парке и ставшего ещё одним символом Выборга. Страсти разгорелись и вокруг этого бронзового персонажа, доставшегося городу в дар от бурного прошлого. На следующий день после падения недоделанного путча 1991 года пал и Лось, лишившись при падении рога. Никто не взял на себя ответственность за этот акт вандализма, возмутивший и сплотивший всех выборжан, независимо от политических пристрастий. Лося-то за что? После этого пару месяцев постамент пустовал, Лося ремонтировали в Ленинграде. Теперь он стоит на своём обычном месте вновь.
Свои круги
…Несмотря на мороз, я почувствовал пленительное тепло, которое вновь вернулось в Выборг после мрачноватых лихолетий. Улочки Старого города снова чаруют своей мощёностью и горбатостью. Самая красивая – улица Морских ворот – одним концом взбирается на гору и упирается в башню с часами, другим сбегает прямо к воде залива. Эти действующие часы на колокольне несохранившегося храма должно отнести к разряду очевидно-невероятного. Башня колокольни сложена из почерневшего камня и часы – такие же тёмные и древние. А вот поди ж ты – идут! Несмотря ни на что, отстукивают время вот уже третий век!
Если судить по жителям, Выборг – типичный провинциальный городок, каких по России сотни. Если же всмотреться в архитектуру, то перед нами возникнет типовой кусочек Финляндии.
Природных финнов в Выборге нет – они не захотели оставаться в Советском Союзе и, наверное, их можно понять. Оставленный ими город (к слову, считавшийся самым благоустроенным и продвинутым в Финляндии) после войны заселялся как попало и кем попало. И, по первости, несоответствие облика и содержания было одной из тех черт, которые первыми бросались в глаза постороннему. Теперь и это в прошлом. Сегодняшние выборжане – уже в основном коренные его жители и по числу патриотов он может поспорить с любым другим городом России.

Но по-прежнему всюду чувствуются остатки былого финского уюта. Бывший музей искусств поставленный на гранитном монолите. Знаменитая библиотека, где прославленный архитектор Альвар Аалто, предусмотрел всё, начиная от акустики и освещения и вплоть до стульев и дверных ручек. Архив. Несколько бывших банков. Гостиница, бывшая.
Чудесный городской сквер – это тоже остатки бывшего дендропарка. Сквозь весь сквер тянется липовая аллея, обсаженная полуторавековыми деревьями, а рядом – грандиозные дубы с окультуренной кроной. И неожиданные лиственницы. Сейчас, усыпанное снегом и изморозью, все это выглядит особо волшебно и празднично. И я вдруг вспомнил, как мы гуляли тут с друзьями ночью, в мой очередной приезд.

Тогда над Выборгом стояла томительная и нежная белая ночь…
Часть 2 Европа: к нам задом
Германия. В логове поверженного врага
Люди думают, что это они играют словами. На самом деле, слова играют людьми. Мы говорим – и что-то подразумеваем, представляем. И очень часто подразумеваем вовсе не то, что говорим. Потому что слова лукавы. Термины ироничны. Понятия субъективны. А истинный смысл, если только таковой имеется, часто сокрыт от нас множеством навешанных штампов, замков и печатей. Почему всё это постоянно приходило мне в голову в поездке по Германии?
1. Нюрнберг

«Шестисотый» – но не «мерс»
Мы говорим «Нюрнберг» – подразумеваем суд, который, если следовать традиции, поставил жирную точку в истории немецкого нацизма.
Тем, кто учился уже в эпоху тестирования, напомню, что с ноября 1945-го по октябрь 1946 года в местном Дворце правосудия состоялся процесс по делу главных военных преступников, развязавших Вторую мировую войну. По нему проходили 24 высших иерарха, идеолога и стратега Третьего рейха. Из тех, кто выжил и дожил до суда. Правда, не все они лично присутствовали в зале №600, где вершилось правосудие. К примеру, Бормана, который загадочно испарился в самом конце войны, судили заочно.
Судьи, среди которых были представители четырёх стран-победителей (от Советского Союза выступал Р. Руденко), опирались на четыре основных пункта обвинения:
Заговор против мира во всём мире.
Планирование, развязывание и проведение агрессивной войны.
Преступления и нарушения военного права.
Преступления против человечества.
Несмотря на такие пункты, трое обвиняемых были оправданы, семеро – получили длительные сроки, а остальные были повешены в спортзале местной тюрьмы 16 октября 1946 года. Пропавшего Бормана приговорили заочно, Лей повесился в тюрьме сам, ещё до начала процесса, а Геринг загадочно умер накануне казни, приняв неизвестно откуда взявшийся яд.
– Происхождение цианистого калия так и не выяснили, – говорит господин Гайм, сотрудник нюрнбергского Дворца правосудия, – подозревали одного из охранников, который помог Герингу избежать позорной смерти – ведь повешение для военного было наиболее постыдным концом.
Мы с г-ном Гаймом и переводчицей Татьяной ходим по тёмным коридорам огромного Дворца правосудия, выстроенного ещё в начале прошлого века. Здесь царит тяжёлая, давящая атмосфера, приличествующая подобным заведениям, в которых судят убийц.
Из окон видна тюрьма – во дворе. Но не та, в которой содержали и казнили нацистов, а новая. Прежнюю ликвидировали в 1987 году, во время капремонта.

А вот и знаменитый «Зал 600», где происходил суд над фашистами. Тут всё осталось таким же, как 60 лет назад. Почти таким же. Скамья подсудимых сильно поуменьшилась.
Зал №600 – никакой не музей. Здесь сегодня так же судят и так же регулярно выносят приговоры. Хотя процессов такого масштаба, как Нюрнбергский, уже нет и быть не может. У современных немецких уголовников не тот размах. Интересно, как чувствуют себя те, кто получает сроки там же, где вожди Третьего рейха?
– Неужели тут сегодня судят простых хулиганов? – не удерживаюсь от вопроса.
– Нет, не простых, – ирония не переводится, – вон видите дверь? – герр Гайм указывает на тёмные створки какого-то шкафа за скамьёй подсудимых. – Это лифт, которым пользовались для доставки преступников из тюрьмы на том процессе. Работает до сих пор.
– Господин Гайм, а все-таки почему именно Нюрнберг стал тогда местом проведения процесса?
– Потому что тут сохранилось неразрушенным вот это здание суда. Да ещё к тому же с тюрьмой во дворе.
Это был ответ сотрудника Дворца правосудия. Официальный ответ. Другого я не ожидал. Но и с этим не согласился.
Сомнения. Странности предыстории Нюрнбергского процесса
Нюрнберг в одночасье превратился для всего человечества в имя нарицательное. Став символом справедливого суда и неотвратимого возмездия. Однако когда соприкасаешься с историей Процесса, то всё время ощущаешь наличие какой-то недосказанности, сокрытой сути, тайны.

На том, чтобы суд состоялся именно в Нюрнберге, союзники настаивали особенно упорно. Советская сторона обоснованно считала, что процесс над Германией должен происходить в столице Германии Берлине. Но союзники, уступчивые по гораздо более важным вопросам, упёрлись не на шутку. В конце концов был найден компромисс – суд над главными наци пройдёт все же в Нюрнберге, а Берлин будет постоянным местом Трибунала. Но хотя судопроизводства продолжались и в дальнейшем, интерес к ним после первого процесса настолько утратился, что про это уже мало кто вспоминал. Начиналась «холодная война» между победителями, и было в общем не до того.
Итак, первая «странность» – в том упорстве, с каким союзники хотели суда именно в Нюрнберге. Сам Нюрнберг в то время лежал в развалинах – налёты авиации тех же союзников практически сравняли его с землёй. Причём, если американцы бомбили днём и выбирали в основном военные и промышленные объекты, британцы прилетали ночью и просто разрушали всё, что попадало под бомбы. Это очень напоминало месть за бомбардировки Лондона и других английских городов. Был уничтожен весь исторический центр Нюрнберга.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



