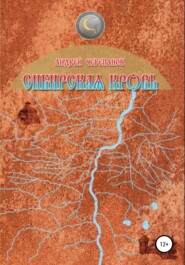 Полная версия
Полная версияСибирская кровь
Первый из них был «вычислен» по сохранившимся архивам Верхоленского острога: в «Книге окладной денежному, хлебному и соляному жалованию» за 7192 (1684) год среди илимских пеших казаков, служащих по Верхоленскому острогу, перечислен толмач «Еремка Яковлев сын Черкашенин», а в двух имянных книгах за 7201 (1693) год сказано о пешем казаке «Михайло Еремееве Черкашенине с двадцатидвухлетнем братом “Геранкой”»475. Конечно же, тот брат (он владел в 1709 году пашней в Бирюльской слободе476 и умер в период между первой и второй ревизиями) и стал отцом Дарьи, а оба главы семейств Черкашениных из Верхоленского острога 1763 года – его сыновья. В свою очередь, Яков, отец верхоленского толмача (переводчика) Еремея Яковлевича Черкашенина, – мой десятижды прадед.
Цепочка, ведущая от Матроны, оказалась несравненно длиннее. Сначала по метрическим книгам я «вышел» на ее деда – бирюльского крестьянина Давыда Никоновича, рожденного около 1737 года, а через ревизские сказки – на ее дважды прадеда Михаила Ивановича, около 1673 года рождения. И из тех сказок хорошо видно, что все бирюльские Черкашенины обязаны своим появлением на свет умершим в период между первой и второй ревизиями Ивану, Симону (Семену), Алексею и Лазарю, и именно в такой последовательности привязки к предкам приведены Черкашенины в ревизских сказках477.
А из переписных книг 1670-х годов следует, что в Бирюльку перебрался из Тутурской волости и поселился на пашне «Данилко Яковлев сын черкашенин з детьми с Ывашком с Мишкою с Офонкою с Лазарком». Он – в разделе «Новоприборные из вольных людей, построены в пашенные крестьяне в тягло, пахать великого государя по десятине ржи по полудесятине яри». А в 1700 году в Бирюльской слободе было четверо сыновей Даниила Яковлевича Черкашенина из ревизских сказок: «Симашка и Лазарко Даниловы Черкашенины пашут чет десятины ржаные яровое тоже», «Ивашко и Олешка Даниловы Черкашенины – по полдесятины и яровые» (всего же в слободе тогда было тридцать семь пашенных крестьян)478. Яков, отец бирюльского крестьянина Даниила Яковлевича Черкашенина, – мой одиннадцатижды прадед.
Где со второй четверти XVIII века, где позже в метриках верхнеленских церквей вместо фамилии Черкашениных стали все чаще записывать как Черкашиных[560], потом Черкашениных вообще прекратили упоминать. А через несколько десятилетий здесь появилась и фамилия Черкасовых.
Шелковниковы
Под яркой фамилией Шелковниковых родилась в 1767 году моя пятижды прабабушка Ирина. Она в 1788 году вышла замуж за крестьянина Никиту Терентьевича Главинского и прожила с ним до своей смерти в 1812 году.
Отцом и дедом Ирины были разночинцы Тихон и Степан большой Шелковниковы, восходящую фамильную линию которых по ревизским сказкам Верхоленского острога с точностью установить не удается. Однако, вероятнее всего, и Степан большой, и его братья Степан малой, Даниил и Максим – сыновья пешего казака Ивана Ивановича большого Шелковникова и внуки казачьего десятника Ивана Максимовича, а Василий и еще один Иван Шелковников – уже сыновья кого-то из этих братьев. И все они перечислены в илимских и верхоленских книгах 1682–1712 годов. При этом в окладной книге 1684 года сообщалось, что десятник Верхоленского острога «Ивашко Максимов сын Шелковников пашню пашет» за хлебное жалование479. При таком построении родословной линии, его отец Максим – мой десятижды прадед.
Судя по всему, был у Ивана Максимовича еще один сын – Василий Иванович, сначала промышленный человек, затем – пашенный крестьянин, который до 1699 года основал под Илимским острогом деревню Шелковникова. Умер он в 1737 году в возрасте восьмидесяти восьми лет, оставив после себя сыновей Ивана с Прокопием и внуков. В самом конце XVIII в той деревне жили двадцать пять православных крестьян, все – Шелковниковы, и занимали они три семейных дома. Глава одного – Иван Иванович, приютивший также вдову Марию Потаповну Шелковникову; другого – Хрисанф Иванович, третьего – Феклист Прокопьевич с братом Прокопием480. Судя по приведенным отчествам и возрастам, они – сыновья тех самых Ивана и Прокопия.
А Герасим Максимович Шелковников, наверняка брат Ивана Максимовича, служил в 1677 году казачьим десятником Илимского острога, несколько лет спустя стал пятидесятником и приказчиком Усть-Киренского острожка, строительством которого занимался481.
Были в Восточной Сибири и другие Шелковниковы: «Юрко Шелковник» подписывал в 1662 году вместе с Семеном Дежневым челобитную сотников, атаманов, пятидесятников, десятников и служилых людей Якутского острога о денежном и хлебном жаловании; Яков Шелковник ходил в 1669 году на коче в составе экспедиции на Колыму; вероятно, тот же Яков Шелковников был десятником казачьим и до 1685 года – приказчиком Верхо-Киренской, Криволуцкой и Усть-Кутской волостей[561]; казак Ивашко Шелковник командировался в 1681 году из Якутска в одно из зимовий. Самым же знаменитым здесь Шелковниковым был первооткрыватель Семен Андреевич Шелковник. Он еще в 1640 году имел в своем ведении соляную варницу под Усть-Кутом, потом служил якутским казачьим десятником и атаманом. Направленный в 1647 году из Якутского острога отряд казаков под его предводительством после ожесточенных столкновений с местными эвенами заложил зимовье, давшее начало городу Охотску.
Год рождения Семена Шелковникова остался неизвестным, а умер он в 1649 году482. В силу довольно редкой фамилии, стоит полагать, что именно Семен Андреевич был общим предком всех восточно-сибирских Шелковниковых.
Шеметовы
Девичью фамилию Шеметовых носили четыре моих прародительницы, и две из них Анны. Это родившая в 1781 году и умершая в 1846 году дочь верхоленского разночинца Прокопия Афанасьевича Шеметова, которая в 1797 году стала женой крестьянина Андрея Андреевича Тюменцова, и жившая в 1842–1885 годах дочь крестьянина Петра Ильича Шеметова, вышедшая в 1862 году замуж за Адриана Яковлевича Черепанова. И та, и другая стали тещами моих предков по чисто мужской линии – Василия Николаевича и Матвея Данииловича Черепановых – и моими соответственно четырежды и дважды прабабушками. Две другие Шеметовы тоже оказались моими четырежды прабабушками: родившаяся в 1789 году Федосья, еще одна дочь разночинца Прокопия Афанасьевича Шеметова, выданная в 1806 году замуж за крестьянина Петра Меркурьевича Пермякова и ушедшая в мир иной в 1850 году, и Евдокия, которая появилась на свет в 1795 году в семье крестьянина Якова Григорьевича Шеметова, стала в 1814 году женой крестьянина из Челпановской деревни Савелия Ивановича Савинова и умерла в 1858 году.
Все восходящие родословные линии моих прародительниц из семей Шеметовых привели меня к верхоленскому разночинцу и, значит, бывшему казаку Афанасию Степановичу Шеметову, не дожившему до второй ревизии Верхоленского острога. А в первой он был записан как Афанасий Степанов, но зато в третьей все его потомки – Шеметовы.
В архивных источниках со списками верхоленских, илимских, иркутских и якутских жителей второй половины XVII – начала XVIII веков я нашел лишь одного Шеметова и как раз Афанасия. О нем говорится в книге С.А. Гурулева «Первые иркутяне» как о казачьем пятидесятнике Верхоленского острога и Иркутска 1696–1708 годов, участнике вместе с иркутским воеводой Иваном Перфильевым в переговорах с прибывшими в 1696 году в город восставшими заморскими (забайкальскими) стрельцами и казаками. Наверняка этот казак, а в отставке – разночинец и есть «мой» Афанасий Степанович Шеметов. В «Книге расходной г. Иркутска и иркутского присуду пригородов и острогов служилым людям» за 1712 год Афанасий Шеметов назван верхоленским сыном боярским. Под тем же званием он приведен в сказках третьей ревизии г. Иркутска как отец Прасковьи – жены иркутского посадского Никиты Ивановича Бояркина[562]. В вышеуказанной книге есть верхоленские пешие казаки Андрей и Василий Шеметовы483.
Не найдя в архивах иных имен, можно на основании данных ревизий без полной уверенности, но утверждать, что все верхоленские Шеметовы произошли от сына боярского Афанасия Степановича. Его отец Степан – по разным линиям мой семижды (дважды), восьмижды и девятижды прадед.
Шергины
Среди моих предков нет представителей фамилии Шергиных, но, согласно сказкам третьей ревизии, она в 1763 году входила в состав наиболее распространенных в Верхоленском остроге. И тогда четверо из пяти ее совершеннолетних носителей – мужчин, были священнослужителями: двое служили пономарями, по одному – иеромонахом и подьяком.
Судя по тому, что рожденный около 1709 года Савелий, глава одного из семейств Шергиных, приведен с отчеством Иванович непосредственно в сказке разночинцев, а Гаврила, глава второго семейства Шергиных, – с тем же отчеством в метрике об его отпевании в 1774 году в Качуге, все верхоленские Шергины происходили от Ивана. Перебрались же они в Верхоленский острог наверняка в середине 1750-х годов из Иркутска, ведь Савелий – бывший разночинец того города, а Гаврила с сыном Никитой были приписаны в 1756 году «по Верхоленску в подушный оклад пономареть».
Заключение с пожеланием
Мы должны быть бесконечно благодарны нашим предкам за подаренные нам жизни. И, пожалуй, единственное, что можем хотя бы частично вернуть как долг совести тем из них, кто давно ушел в мир иной, – это уважение и знание их имен. К великому позору, к своим пятидесяти годам я не знал и не пытался узнать собственных предков дальше родителей моего отца. О предшествующих им поколениям мне было известно только их место жительство где-то на иркутской земле, куда они, вроде бы, перебрались с Урала. Как давно и куда конкретно перебрались, какие носили имена, с кем породнились, когда родились и сколько прожили, чем занимались, было для меня полной тайной, раскрыть которую даже мысли не возникало. Все изменилось от внешнего импульса, от увиденной архивной справки.
И вот теперь, после проведенного мною многомесячного исследования, я знаю имена, фамилии, годы рождений, точные места жительства и во многих случаях – даты бракосочетаний всех отцов, матерей, дедов, бабушек, прадедов и прабабушек моих прадедов и прабабушек по отцовской линии (а материнская не была темой настоящего иследования). За исключением только одной ветви – неизвестного отца моего вне брака рожденного прадеда Ивана Ивановича Скорнякова. А ведь это вместе со мной – как раз те положенные в прошлом для обязательного познания семь колен рода. Но полагалось-то знать поколения только своей фамилии. А вот по собственной фамилии мне стали наверняка известными по восходящей от меня линии десять колен вплоть до верхоленского купца Ивана Федоровича Черепанова и, по наиболее надежной версии, – еще четыре. Поэтому своим детям я передаю имена представителей четырнадцати предшествующим им поколений Черепановых, и первый ставший известным наш праотец – это Иван Черепанов, рожденный еще в XVI веке, вероятно, в северо-уральском Пустозерске. Он для моих детей – двенадцатижды прадед.
Всего же я узнал почти четыреста имен своих предков – как Черепановых, так и появившихся на свет под другими фамилиями, шестьдесят из тех фамилий установлены. Среди них четырнадцать моих одиннадцатижды и один или два двенадцатижды прадедов (точно Иван Орлов и почти наверняка – Яков Щербаков). Мои праотцы были посадскими (купцами), мещанами, казаками и крестьянами – первыми вольными и ссыльными поселенцами в Восточной Сибири и их потомками. При этом мне не удалось найти ни одного своего прародителя неславянских, местных кровей, и поэтому я совсем не убежден, что вправе считать себя типичным сибиряком. Однако, без сомнения, существовало кровное родство – близкое или далекое – подавляющего большинства коренных жителей Верхоленского уезда Иркутской губернии между собой. Значит, и я нахожусь в родстве с их потомками. У нас общие предки – основоположники верхнеленских фамильных династий, разнятся лишь идущие от них родословные линии и иногда число колен.
Без проведенного исследования я бы не узнал, что мои праотцы основывали и поныне стоящие поселения, создавали первое соляное производство, были открывателями земель, стрельцами, атаманами, священниками, приказчиками сибирских острогов и детьми боярскими, бунтовали против воевод-мздоимцев, погибали или выживали под пытками. Не узнал бы я и того, что мои предки по чисто мужской фамильной линии жили весь или почти весь XVIII век в Верхоленском остроге, а в самом начале XIX века сменили свое купеческое и мещанское сословия, чтобы стать государственными пашенными крестьянами Кутурхайской деревни. С той поры они кормили свои семьи собственным тяжелым крестьянским трудом и заодно пополняли хлебные закрома России. А ведь благодаря таким, как они, моя страна поднимала национальную экономику, последовательно улучшала жизнь граждан, излишки зерна направляла на экспорт. Развивались и здравоохранение, и образование крестьян. Те из них, кто обладал способностями и желанием, мог, пройдя начальное обучение в Кутурхае и Верхоленске, податься за повышением знаний в Иркутск, Харьков и другие города России, в том числе в ее столицу, становиться врачами, овладевать другими профессиями. Конечно же, при сохранении сложившегося к началу XX века порядка вещей, в том числе демографической динамики, и Верхоленский уезд, и Иркутская губерния в целом были бы сегодня хорошо заселенной, экономически развитой территорией с высоким благосостоянием населения.
Без исследования не стало бы мне столь очевидным, как после 1917 года привычный уклад жизни моих верхоленских предков оказался сломан большевиками с их ненавистью к частнособственническим интересам крестьян, которые были хозяевами своих домов, земли, деревень, результата личного труда и своей судьбы[563]. А ведь советская власть не принесла сибирским крестьянам ничего доброго (всеобщее среднее образование, резкое снижение детской смертности[564] и прочие прелести цивилизации, безусловно, пришли бы в село и без них, как во всем мире, и значительно быстрее). Зато последовавшие за октябрьским переворотом и разгоном всенародно избранного Учредительного собрания гражданская война, разруха, принуждение ко вступлению в колхозы и массовые репрессии погубили крестьянское дело, на десятилетия сделали сибиряков, да и, по большому счету, всех россиян нищими и бесправными. В итоге страна оказалась неспособной производить достаточного для собственного пропитания того же зерна, и оно вместе со множеством необходимых для жизни продуктовых и промышленных товаров позорно стало закупаться за рубежом на выручку от продажи невосполнимых ресурсов недр. Тем самым Россия из экономически мощного, самостоятельного и во многом передового государства превратилась в сырьевого снабженца своих соседей по планете. И она сильно отстала в развитии от конкурентов с капиталистическим укладом хозяйствования за исключением лишь отдельных направлений, вроде освоения космоса и создания атомного оружия, приносящих мало пользы простому человеку. Так, советская власть загубила вполне реальный шанс для страны, избавившейся в начале 1917 года от пережитков абсолютной монархии, стать цивилизованной.
В ходе исследования выяснилось, что некоторые из верхнеленских Черепановых смирились с обобществлением их труда и работали в колхозах до поры, пока те колхозы не рассыпались. По крайнем мере трое кутурхайских Черепановых решились на открытую борьбу с враждебным большевизмом, один из них был убит, двое скрылись. Многие Черепановы забросили привычное крестьянское ремесло и покинули свою малую Родину. И вот сегодня если и живут в Верхнеленье крестьяне под фамилией Черепановых, то их уже далеко не сотни, как в начале XX века, а единицы.
Итоги проведенного мною исследования формализованы в приложениях, венцом которых, на мой взгляд, стало составленное в виде таблицы и произрастающее от Ивана Федоровича Черепанова общее родословное древо почти двух с половиной тысяч жителей верховьев Лены и их потомков, когда-либо носивших его фамилию. Теперь каждый из Черепановых, имеющий верхнеленские корни, может легко определять по таблице степень родства с основоположником нашей фамильной династии и со своими однофамильцами, изучать и достраивать в бесконечное будущее собственную родословную ветвь, узнавать девичьи фамилии своих прародительниц, места, даты жизни и бракосочетаний предков. Не меньшим достижением, полагаю, стало еще одно никогда ранее не оформлявшееся и поэтому полезное для примера древо материнских фамилий, которое демонстрирует выявленные ответвления от основной родословной линии и все ответвления от тех ответвлений с возможностью неограниченного внесения новых открытий. В основном же тексте настоящей книги рассказано с подробными ссылками на первоисточники, что мне удалось узнать о верхнеленских Черепановых, в том числе в разбивке по двум десяткам поселений, в которых они когда-либо жили, историях других родных мне фамильных линий, десяти не вошедших в их перечень наиболее распространенных в середине XVIII века фамилий и некоторых иных, то есть об истоках более семидесяти верхнеленских, илимских и иркутских фамилий.
Больше всего в ходе исследования меня удивили хорошая сохранность и доступность множества документов двухсот-, трехсот- и даже четырехсотлетней давности, а также то, насколько тесной оказалась в те стародавние времена взаимосвязь событий и людей в сибирских местностях, раскинутых друг от друга на тысячи верст и соединенных лишь своеобразной кровеносной системой – реками и волоками. И я, конечно, не забуду того чувства, что испытываешь, когда идешь в архив, чтобы взять в руки для изучения очередное дело, содержащее или вероятно содержащее вековой, а то и многовековой давности список собственных предков. Такое чувство наверняка сродни тому, как если ты прибыл на машине времени в отдаленное будущее и вот-вот увидишь своих потомков. Ты еще не знаешь их имен, возраста, рода занятий. Но с минуты на минуту познакомишься с ними…
За полезные, дельные советы, предоставление важных сведений, содействие в проведенном исследовании и подготовке настоящей книги благодарю:
– руководителя архивного агентства Иркутской области Овчинникова Сергея Геннадьевича и коллектив Государственного архива Иркутской области (особое почтение его директору Семеновой Ольге Георгиевне и начальнику отдела информационных архивных технологий Чукавину Ивану Алексеевичу);
– бывшего главу Администрации Верхоленского сельского поселения Качугского района Иркутской области Шонкина Сергея Ханхараевича;
– коллектив Верхоленской сельской библиотеки;
– коллектив Международного генеалогического центра в Москве;
– коллектив муниципального архива Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия);
– коллектив отдела ЗАГС по Усть-Майскому улусу Республики Саха (Якутия);
– сотрудника Российского государственного архива древних актов Жукова Вячеслава Дмитриевича;
– Михееву Римму Георгиевну, мою тетю из г. Якутска;
– Топоркова Владимира Васильевича, моего троюродного брата из г. Орла;
– Черепанова Андрея Иннокентьевича, моего семиюродного дядю из г. Ангарска;
– Черепанова Николая Васильевича, моего троюродного брата из с. Верхоленск;
– Черепанову Дарью Андреевну, мою дочь из г. Москвы;
– Черепанову Марину Николаевну, мою восьмиюродную сестру из пос. Качуг;
– Шахбазову Наталью Петровну, мою пятиюродную племянницу из пос. Качуг;
– Шеметову Наталью Викторовну, мою восьмиюродную сестру из с. Белоусово.
Фамильная эмблема
В далекие студенческие годы я придумал свою фамильную эмблему. Она вышла как изображение моих инициалов Ч.А. в английской транскрипции – «CH» и «A» всего лишь четырьмя линиями – полукругом и тремя прямыми, располагаемыми так: полукруг формировал букву «C», его снизу пересекали по вертикали две равные параллельные линии, что формировало «H», и конструкция «CH» как бы стояла на ногах. Затем проводилась завершающая прямая с верхней части правой параллельной линии к точке пересечения левой параллельной линии с буквой «C» и далее до одного уровня по вертикали с левой стороной конструкции, а по горизонтали – с нижней стороной ее ножек. В результате появлялась «A», а в целом – стилизованное русское «Я».
Теперь же мне стало понятным, что та эмблема наполнилась новым смыслом и годится для наполнения фамильного герба верхнеленских Черепановых, которые были свободными крестьянами-единоличниками и речниками, а многие из их праматерей происходили из семей казаков. И тогда стоящая на ногах конструкция «CH» с заостренной верхней оконечностью – это символическое лезвие крестьянского серпа, рукоять которого сформирована изображением двух весел. А соединяющая те весла наклонная прямая – это клинок казачьей сабли, опирающийся на свою рукоять (при желании саблю можно считать писательским пером). Опять же получается буква «Я» – символ самостоятельности, личной свободы. Ее образ стоит поместить в круг – аверс монеты и тем самым знаменовать еще и купеческое прошлое Черепановых.
Добавлю, что придуманная тогда эмблема красовалась на обложках моих семинарских конспектов и на тоненькой тетрадке со стихами. В январе 1982 года я в нее вписал, среди прочих, четверостишие, после замены одного слова в котором («звездных» на «отчих»), а то и без такой замены, оно удивительно подходяще в эпиграфы к настоящей книге. Но мне хочется, чтобы начатое мною исследование продолжалось, и поэтому закольцую уже сделанное с предстоящим и размещу те строки не в прологе, а в эпилоге:
… Пусть бегут, торопятся мгновенья.Пробивая времени гранит,Свет далеких звездных поколенийМне о прошлом память сохранит.И еще: я уверен, что человек, глубоко знающий и ценящий свои родные корни, становится и ответственнее, и сильнее. Он – истинный хозяин на земле, а не временщик. Чем больше таких хозяев, тем всегда ответственнее и сильнее его страна. И у меня есть надежда, что эта книга сподвигнет многих ее читателей заняться познанием имен собственных предков, имен тех, чья кровь течет через их сердца. Дерзайте!
Перечень архивных и иных исторических источников
1. При изложении хронологии появления исповедных росписей и метрических книг, приведении цитат использовались сведения из интернет-портала Genealog-expert.ru (работа Воробьева Александра «Исповедные ведомости (исповедные росписи). История» и др.
2. ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 294, л. 435–436 об.; оп. 1, д. 1387, л. 236–245 об.
3. Там же, оп. 1, д. 1, л. 72–75 об.
4. Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX века: Альбом-монография. М., 2000; Иркутский историко-краеведческий словарь; и др.
5. ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3949, л. 35; д. 5035, л. 14.
6. РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 509, д. 1, л. 1 об., отв. 11.
7. Красноштанов Г.Б. На ленских пашнях в XVII веке (Документальное повествование). М., 2012–2013. Ч. 2. С. 822.
8. ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5035, л. 37–37 об.
9. Там же, д. 3949, л. 15.
10. Там же, л. 2; д. 5035, л. 25.
11. Там же, д. 5035, л. 65.
12. Там же, оп. 3, д. 836.
13. Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX века: Альбом-монография; и др.
14. ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 230, 271, 516–525, 778а, 793, 1766.
15. Там же, оп. 7, д. 492, л. 38–45.
16. Там же, оп. 1, д. 5234, л. 12 об.–16.
17. Там же, оп. 1, д. 3948, л. 510–511 об.
18. Письмо ГАИО от 3 августа 2016 г. № Т-427 о наличии ревизских сказок только по нескольким населенным пунктам Илимского уезда и Манзурки (ф. 1, 145).
19. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 291–313.
20. Там же, л. 314–362 об.
21. Там же, л. 293 об.–294.
22. Там же, д. 1057, л. 80.
23. Там же, л. 92–96.
24. Там же, д. 1059, л. 664–726 об.
25. Там же, д. 1058, л. 673–702 об.
26. ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 55, л. 12, домовл. 61; д. 504, л. 301 об.; д. 1, л. 60 об.
27. Там же, л. 681–681 об.
28. Там же, л. 756, «поданная сказка по № 1149»29. Там же, д. 1059, л. 728–783, 786–883, 1254–1292 об.
30. Там же, л. 855–855 об.
31. Интернет-публикация: Хроники основания сибирских острогов в XVI–XVII вв. / сост. Н.М. Полунина и др.
32. Интернет-публикации: Павлик В. Долгий путь на Амур; Полевой Б.П. Новое о местоположении Бутальского острожка; Чернавская В.Н. Первый выход русских к Тихому океану.
33. Интернет-публикация: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Гл. 8: Сибирские землеискатели XVII века.
34. РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 273–274, л. 54–61 об.
35. Архив Санкт-Петербургского института истории РАН, кн. 191, стб. 13, л. 1–2.
36. РГАДА, ф. 214, оп. 3, ст. 368, л. 352–352 об.; оп. 5, д. 6, л. 31 об.
37. В рассказе о Курбате Иванове основные события и цитаты приведены по: Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1; интернет-публикации: Владимир Бахмутов Красноярский. Судьба землепроходца; Курбат Иванов – завоеватель-картограф // Сибирская книга. Электр. журн. Михаила Кречмара.



