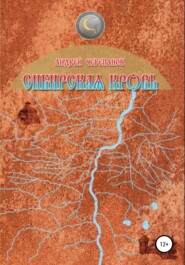 Полная версия
Полная версияСибирская кровь
Толмачевы, они же – Баженовы
Пять раз мои предки брали в спутницы жизни тех, в ком текла кровь Толмачевых. Рожденная в 1750 и умершая в 1835 году Акилина (Акулина) была дочерью верхоленского разночинца Степана Толмачева и женой разночинца Прокопия Афанасьевича Шеметова. Она – моя пятижды прабабушка по линиям сразу двух ее дочерей – Анны и Федосьи. Под фамилией Толмачевых родились в 1687 и 1760 годах Устиния и Анна, ставшие моими соответственно семижды и пятижды прабабушками. Старшая из них – дочь верхоленского казака Алексея Федоровича Толмачева, вышедшая замуж за разночинца Еремея Абатурова. Младшая – дочь разночинца Остафия Яковлевича Толмачева, бывшая с 1786 года женой крестьянина Якова Шеметова и умершая в 1848 году в возрасте около девяноста лет. А в 1791 году в семье крестьянина Никиты Яковлевича Толмачева появилась на свет, а в 1853 году ушла в мир иной Феврония[553]. Она в 1807 году была отдана взамужество отставному солдату Петру Васильевичу Куницыну и оказалась моей четырежды прабабушкой.
В период третьей ревизии в Верхоленском остроге жили пятнадцать семей Толмачевых. Еще несколько прежде верхоленских представителей той фамилии были «за Байкальским морем в Кударинской слободе» или в командировке в Анадыре[554], Иркутске и Охотске. Восходящие фамильные линии их глав в большинстве случаев по сохранившимся архивным документам однозначно не прослеживаются, поэтому мне не удалось дойти по ним дальше моих шестижды- и семижды прадедов. Исключение составила только линия казака Алексея Толмачева, отца Устинии. Он – без сомнения один из сыновей Федора Толмачева, о которых говорится в «Книге окладной денежному, хлебному и соляному жалованию» 7192 (1684) года как об илимских служилых пеших казаках, которые служат по Верхоленскому острогу и наделены пашенной землей взамен хлебного жалования: «Ивашко да Олешка да Мишка Федоровы дети Толмачевы пашню пашут». Тем тогда занимался еще один Толмачев, но десятник Иван Федорович большой454. И вряд ли стоит сомневаться, что та пашня прилегала к деревне с нынешним названием Толмачева – ближайшего к Верхоленску поселения на реке Куленге.
Те же сыновья Федора Толмачева, однако еще как конные казаки и без Алексея (он был тогда либо молод для поверстания в казаки, либо в командировке), – «Ивашко Федоров сын меншей Толмачев», «Ивашко Федоров сын болшей Толмачев» и «Мишка Федоров сын Толмачев» – перечислены в разделе «Верхоленского Братцкого острошку служилые люди» окладной книги Илимского острога за 7185 (1677) год. В ней сообщается и о том, что Михаил поверстан «во 184 году во оклад отца ево Фетки Толмача, а Фетка Толмач во 184 году умер». Еще из архивов того времени выясняется, что в 1693 году в Верхоленском остроге продолжал служить Иван Федорович Толмачев болшей; Ананий Толмачев, несколько семей потомков которого жили в Верхоленске в третью ревизию, был рожденный около 1681 года сын десятника Федора Толмачева старшего; Ананий и Никифор Толмачевы служили в 1712 году верхоленскими пешими казаками455.
Удалось мне и установить отчество основоположника верхоленской династии Толмачевых: в «Окладной книге Илимского острога» за 7161 (1653) год среди еще холостых «Верхоленского острожку служилых людей» приведен «турецкий и тунгуский толмач Фетка Стефанов»456. Наверняка с его потомками произошел классический случай присвоения фамилии по роду занятий предка, и дети толмача (переводчика) стали Толмачевыми. Значит, его отец Степан – мой десятижды прадед.
Вряд ли этот прадед сам носил фамилию Толмачевых, а был, вероятно, Баженовым, неспроста ведь в переписной книге Илимского острога 7184 (1676) года среди «Верхоленского острошку конных казаков» перечислен «Ивашко Федоров сын Толмачев, Баженко он же». Впрочем, здесь не все так однозначно: в уже процитированной окладной книге Илимского острога за 7185 (1677) год сказано о поверстании Тимофея Павловича Пежеского «во 185 году на Феткино место Баженина и в иво оклад, а Фетка Баженин по челобитью за старостию и за увечьем азначеной службы отставлен»457. Но ведь мы только что видели утверждение той же окладной книги о том, что верхоленский Федор Толмачев умер еще в предыдущем году, а его оклад достался сыну Михаилу. Вот и понимай тут – то ли «Толмачев, Баженко он же» – это про сына илимского, а не верхоленского казака, то ли было в илимском ведомстве два Федора Баженко – в Верхоленском остроге с двумя фамилиями – Толмачев и Баженко, а в Илимском остроге – «чистый» Баженин, то ли в записи вкралась ошибка.
Интересно, что в поиске казаков под фамилией Баженко (Баженовых) или Толмачевых в самых древних именных книгах сибирских городов я нашел только одного из таких – Толмачева – и опять же Федора. Он попал в послужной список города Томска с описью заслуг участников недавнего боя, и в нем: «Фетка Толмачев государю служил, в городку на приступе убил мужика»458. Но навряд ли верхоленский и томский Федоры Толмачевы тождественны, ведь послужной список Томска составлялся еще в 1625 году.
Тюменцевы, они же – Ильины
Мне известны имена семерых дочерей Тюменцовых – представительниц самой распространенной в Верхоленске фамилии, ставших моими предками. В том числе трижды их брали в жены непосредственно праотцы Черепановы: Анисия, появившаяся на свет в 1814 году в семье крестьянина Андрея Андреевича Тюменцова и умершая в 1870 году, вышла в 1830 году замуж за Василия Николаевича Черепанова; Анна – та, что родилась в 1781 году в семье мещанина Власия Афанасьевича Тюменцова и умерла в 1856 году, – была отдана в 1800 году взамужество крестьянину Ивану Васильевичу Черепанову; Мавра, рожденная в 1703 году в семье казака Тимофея Тюменцова, стала женой Ивана Федоровича Черепанова. Они мои соответственно трижды, четырежды и семижды прабабушки.
Если остальных моих прародительниц с девичьей фамилией Тюменцовых перечислить в порядке старшинства, то первой из них окажется рожденная в 1732 году дочь разночинца Зиновия Тимофеевича Тюменцова Матрона (Матрена), которая вышла замуж за разночинца Ефима Яковлевича Кистенева и оказалась моей шестижды прабабушкой. А Анна, появившаяся на свет в 1759 году в семье крестьянина Тимофея Петровича Тюменцова, стала в 1780 году женой купца Петра Титова, затем – тещей Николая Ивановича Черепанова и моей пятижды прабабушкой. Примерно через пять лет у мещанина Василия Афанасьевича Тюменцова родилась дочь Стефанида. Она была с 1783 года замужем за мещанином Василием Леонтьевичем Куницыным и тоже оказалась моей пятижды прабабушкой. Рожденная же в 1774 году и умершая в 1844 году еще одна Анна (уже третья по счету) – дочь разночинца Андрея Ивановича Тюменцова, которая вышла замуж за мещанина Ивана Федоровича Савинова, – также моя пятижды прабабушка.
Я насчитал на дату проведения третьей ревизии две посадских (купеческих) и девять казачьих (разночинских) семей Тюменцовых в Верхоленском остроге и еще две, обосновавшихся после второй ревизии из Верхоленска в Иркутске. В связи с тем, что в ревизской сказке прямо говорится об определении главы одного из семейств – Леонтия Тюменцова – в купцы из разночинцев, стоит полагать, что и вторая посадская семья определена из них же[555], что, в свою очередь, означает казачье происхождение всех верхоленских Тюменцовых.
Судя по всему, они восходят к единственному в 1677 году представителю этой фамилии в Верхоленском остроге под именем «Кирюшка Герасимов сын Тюменец», который был перечислен в окладной книге Илимска в разделе «Верхоленского Братцкого острожку служилые люди» как конный казак с годовым окладом в семь рублей. Тогда же один его сын – Андрей Кириллович – служил казаком в Илимском остроге, а другой – Василий Кириллович – сторожил там таможенную избу. Через семь лет, в 1684 году, в «Книге окладной денежному, хлебному и соляному жалованию» говорится еще о двух служилых Тюменцовых – Андрее Кирилловиче меньшем, что «пашню пашет», и о верхоленском казаке «Ивашко Куприянове сыне Тюменцове». Наверняка отчество последнего приведено с ошибкой, и он также – Кириллович. Полагаю, что Кирилловичем был и казак Тимофей Тюменцов, отец моей семижды прабабушки Мавры, и, согласно «Книге приходной 1712 года г. Иркутска» именно он, верхоленский служилый человек Тимофей Тюменцев, сдавал тогда деньги целовальнику Борису Дементьеву для зачисления в государеву казну459.
Происхождение Герасима, отца казака Кирилла Герасимовича Тюменцова, который, при верном определении родства, приходится Тимофею Тюменцову дедом, а мне – по одной линии, одиннадцатижды, по нескольким другим – десятижды прадедом, пока что остается для меня загадкой. Но один из ярких представителей фамилии Тюменцовых, вошедших в историю Восточной Сибири, вполне мог статься его отцом. Это – красноярский казачий атаман Елисей Васильевич Тюменцов, основавший в 1648 году на берегу реки Уды Покровский городок (будущий Нижнеудинск[556]). Как свидетельствуют исторические источники, Елисей Тюменцев был сыном Василия Андреевича Тюменца, в 1610-х – начале 1620-х годов тарского, а затем – енисейского казачьего атамана, в 1619 году – посла Московского царя к Алтын-хану монгольскому Кончакаю. Изначально тот Василий носил фамилию Ильин и происходил из первого сибирского города Тюмени, где он или его отец был поверстан в дети боярские460.
Сыновьями Василия Андреевича историки также называют Василия, не оставившего своих потомков, и Емельяна, упоминаемого в архивных документах 1636–1680 годов в должности красноярского пешего атамана. Вот только иногда крайне застенчиво выдвигается версия, что Елисей и Емельян – одно и то же лицо. Я же понимаю, что это именно так, ведь, по архивным документам, Емельян Тюменцев числился казачьим атаманом в тот период беспрерывно, а в сибирских городах XVII века отсутствовала традиция одновременного назначения казачьими атаманами родных братьев. Оттого не могли атаманствовать в Красноярске и Елисей, и Емельян, а был это, действительно, один человек. К тому же история умалчивает о судьбе атамана Елисея Тюменцова после успешного преследования им в 1666 году киргизского князца Ереняка, разорившего Удинский острог. А, скажем, атаман Емельян Тюменцов попал в перепись Красноярска и Красноярского уезда 1671 года вместе со своими сыновьями Аникой и Дмитрием (последний числился сыном боярским). В конце XVII века эти сыновья приняли деятельное участие в бунте против воеводы[557], из-за чего Дмитрий был «послан в сылку», и землей в красноярской деревне Тюменцова, основанной Емельяном, в 1701 году владел его сын Иван. Но к 1709 году опала была снята, и Дмитрий Тюменцов вновь занял в Красноярске должность сына боярского, а казачьим атаманом тогда в городе служил Петр Тюменцов461.
Стоит полагать, что Герасим являлся старшим сыном Елисея (Емельяна) Тюменцова и братом Аники и Дмитрия. Вероятно, он был рожден в тридцатых годах XVII века, служил казаком в Удинском, Илимском, либо другом восточном от Красноярска остроге и оставил после себя там потомков.
Как, в частности, следует из третьих ревизских сказок Верхоленского острога, в 1733 году в верхоленские дети боярские был определен Алексей Тюменцов, позднее перебравшийся в Иркутск[558]. Наверняка этим было отмечено славное прошлое его предка. Впрочем, я не буду исключать и версии того, что верхоленские Тюменцовы ведут свою родословную не от Елисея (Емельяна) Тюменцова, а от «некрасноярской» линии его отца, енисейского казачьего атамана Василия Андреевича Тюменцова: Герасим мог быть его внуком от другого сына.
А вот те Тюменцовы, что крестьянствовали с середины XVII века на пашне под Усть-Кутом, – «Сенка Ондреев Тюменец», «Ивашка Никитин сын Тюменя» и «Ивашка Андреев сын Тюменцов»462 – вряд ли были потомками казачьих атаманов. И, конечно, не ими, а верхоленским казаком Кириллом Герасимовичем Тюменцовым, либо его сыновьями была основана и поныне стоящая на реке Лене в четверти сотни километров ниже Верхоленска деревня Тюменцева.
Уваровские
Среди моих предков пока что не найдено Уваровских, но в 1763 году в Верхоленске было пять посадских семей и одна семья разночинцев под такой фамилией с солидным общим численным составом. Похоже, что предком всех посадских и, вполне вероятно, разночинцев, а также священнослужителей (которые не попали в сказки второй и третьей ревизий) был Григорий Уваровский. Он родился около 1673 года и умер в 1752-м, в верхоленские посадские определен в возрасте пятидесяти лет.
Точно его происхождение мне определить не удалось. Но он вполне мог быть тем самым конным казаком Григорием Любимовичем Уваровым из Нерчинского острога, который включен в его окладную книгу 7208 (1699) года. В той же книге есть еще один Уваров – рядовой казак Василий. А из других архивных источников следует, что Любим Уваров был в начале 1690-х годов нерчинским сыном боярскими. Детьми боярскими состояли в Нерчинском остроге Алексей, а в Селенгинском – Иван Уваровы. И эта фамилия была в Сибири XVII века хорошо известна, ведь ею обладал даже один воевода – Федор Федорович Уваров, который руководил Енисейском в начале 1640-х годов463.
А в Илимске в конце XVII – начале XVIII века жил посадский Федор Власьевич Уваровский. Он в 1704 году платил оброк в двадцать три алтына и две деньги и «по выбору илимских посадских людей был он в Киренском остроге у соляной продажи в целовальниках». Не его ли сын Иван Федорович Уваровский был служилым человеком, проставившим в мае 7203 (1695) года подпись на отводной на землю в Илгинской волости, а в 1708 году оказавшийся в казаках г. Иркутска? И, наоборот, не приходился ли сыном казачьего десятника Данилы Уварова, вошедшего в сметную книгу Иркутска за 1681 год, Василий Данилович Уваровский, который женился на крестьянской дочери и был в 1699 году в Яндинском остроге хлебным оброчником (он родился около 1671 года и умер в 1731 году)464? И, интересно, состоял ли кто-нибудь из них в родстве с верхоленскими Уваровскими?
Что же до происхождения фамилии Уваровских, то она вполне могла быть связана с солеварением, ведь в сказках второй ревизии говорится о приписанном в посадские Иркутска в 1725 году Михаиле Уваровском, около 1686 года, государственном сыне крестьянском из-под архангельского города Соли Вычегодской465. А в относящейся в те времена к нему Лальской волости была деревня Уварова.
Усовы. смоленская история
В 1721 году появилась на свет и в 1782 году ушла в мир иной моя шестижды прабабушка Ксения, имевшая до замужества с крестьянином Алексеем Амосовичем Зуевым из Бирюльской слободы фамилию Усовых. Отец Ксении Марк Андреевич Усов также был бирюльским крестьянином.
Я нашел много имен представителей фамилии Усовых в илимском ведомстве XVII века, начиная с «Дружинки Григорьева», который включен в «Книгу имянную Илимскаго острогу пашенным крестьянам и ссыльным черкасам» 7161 (1653) года как крестьянин «у Илимского острога на низ Илимска». Наверняка о его сыне – «у Бадармы речки деревня, а в ней Пашка Дружинин сын Усов» – говорится в «Книге имянной Илимскаго острогу пашенным крестьянам и сколько кто пашет государева десятинные пашни» за 7184 (1676) год. Разобраться же с родством других Усовых намного сложнее, и среди них также есть два Павла, но с отчествами Григорьевич и Илларионович: в 1671 году пашенные крестьяне, включая Павла Григорьевича Усова, «пасажены на льготу … в Илимском остроге ниже Илимского устья по Тунгуске реке …, а льготы дано им на три года с прошлого со 179 года да по 182 год, а со 182 года пахать им великих государей десятинная пашня». А в «Книге окладной имянной Лимскаго острога пашенных крестьян» за 7197 (1689) год – «Афонка да Пашка Ларионовы дети Усовы». Они же и Сидор Усов перечислены в окладной книге 1718 года по Верхоилимской слободе. Наверняка тот же Афанасий Усов в 1677 году был старостой илимских «мирских выборных людей» и в 1726 году – умершим крестьянином из нижнеилимской деревни Большой (его внук Митрофан перешел в Карапчанское ведомство). В 1700–1706 годах по Нижнеилимской слободе под отчеством Илларионович вместе с Афанасием назывался еще Михаил Усов. А Иван Наумович Усов состоял в 1676 году в илимских судовых плотниках, «которые на Якутцкой обиход суды делают за судовые ж свои хлебные оклады пашни пашут»466.
К началу XVIII века оставались также Усовы под отчеством Григорьевичи – Иван и Кузьма, но они под Братским острогом в деревне Кежемской. Может, детьми одного из них – Кузьмы – были включенные в «Перепись домов Илимска за 1703 год» сын боярский Василий Козмин Усов, его братья казаки Данила и Иван Усовы. Умерший в 1708 году с тем же именем – «Василий Козмин сын Усов» – оказался среди иркутских казаков, а Степан Усов, Федор Усов с братом Якимом, около 1662, 1675 и 1694 годов рождения, – на ангарских Матюшиных островах и в деревне Балаганова. В «Книге о выдаче строителям иркутского Рождественского монастыря жалования», вероятно, 1717 года сказано об Андрее Кирилловиче, Павле Степановиче, Федоре Ивановиче и десятнике Артемии Ивановиче Усовых467.
Но все те Усовы вряд ли имели родственное отношение к моей шестижды прабабушке, ведь, согласно исследованию историка Георгия Красноштанова, в Бирюльской волости поселился совсем другой носитель той фамилии – «Андрюшка Власьев Ус». А был он препровожден в 1667 году из Москвы в Тобольск с верхотурским сыном боярским Иваном Давыдовым, а затем – на илимскую пашню в компании сосланных «в дальные сибирские городы на вечное жилье за воровство и бунт смоленских стрельцов» Семена Аристова, Якова Ильина, Якова Матвеева, Дия Петухова, Семена Рыкова и Василия Седых, а также служилых Вознесенского девичьего монастыря Гаврилы Лукьянова, Кузьмы Никифорова и Степана Сосны. Как раз шестеро из тех ссыльных вместе с девятью крестьянами из числа вольных с их семьями сформировали в 1668 году население новой Бирюльской волости. Перед своей ссылкой Андрей Власьевич Ус был «з женою Оринкой да з двемя дочерьми: с Марьицею да з Дашкою. И у Ондрюшки дочери, по сказке пристава, обе по дороге умерли», но появился сын Иван, и к 1686 году у Андрея Власьевича было уже четыре сына. В приходную книгу 1700 года по Бирюльской слободе вписан только один из них – «Гришка Андреев Усов», а в окладную книгу 1706 года – трое, но не под фамилией Усовы, а как «Григорей, Терентей, Микифор Андреевы дети Власовы»468.
В материалах второй и третьей ревизий по Бирюльской слободе469 Усовы разделены на два «братских» блока: в одном Афанасий и Гаврила Григорьевичи, в другом – Давид, Марк и Терентий Андреевичи. Исходя из приведенных в сказках возрастов и очередности размещения, первый блок составлен из сыновей Григория Андреевича Усова – умершего в период между первой и второй ревизией старшего сына Андрея Власьевича (умер также Иван Усов), второй – из сыновей самого Андрея Власьевича. При этом разница в годах рождения Терентия и Давида с Марком составляла целых двадцать пять – тридцать лет, что предполагает их рождение в разных браках Андрея Власьевича. Понятно, что перечисленные Григорьевичи и Андреевичи (кроме Давида, дети которого в сказках не приведены), включая Марка Андреевича – отца Ксении, и стали предками всех бирюльских Усовых. Дед Марка, он же – мой девятижды прадед Власий, вероятнее всего, жил в Смоленске с его множеством древних переписных книг, и смоленской родословной Усовых еще стоит плотно заняться.
Хабардины
Я не обнаружил среди своих предков носителей фамилии Хабардиных, но ее представители были в 1763 году в Верхоленском остроге многочисленны, и все мужчины восходили к казачьему прошлому.
Судя по всему, основоположниками верхоленской династии Хабардиных были два брата-казака: «Никифорко Козмин Хабарда», служивший в 1653 году в Илимске, а в 1684 году в Верхоленске, и «Мишутка Козмин сын Хабардин», перечисленный в разделе «Верхоленского Братцкого острошку служилые люди» из «Книги окладной великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца Ленского волока Илимского острога денежному жалованью ружником с оброчником, детям боярским и подьячим и тех чинов служилым людем на нынешней 185 год» (1677 год). В 1693 году там же были казаками Петр Никифорович и Константин Петрович Хабардины – наверняка сын и внук Никифора Кузьмича470.
Деревня, расположенная на реке Куленге в десятке километров от Верхоленска и носящая сегодня имя Хабардина, была основана не позднее 1684 года, ведь уже тогда в «Книге окладной денежному, хлебному и соляному жалованию» говорилось, что за хлебное жалование казак «Петрушка Никифоров сын Хабардин пашню пашет»471.
Челпановы
Моя шестижды прабабушка Маремьяна, родившаяся в 1744 году и умершая в 1789 году, была дочерью верхоленского разночинца Никифора Челпанова, почему-то названного в сказках второй ревизии Федотом. А на самом деле с таким именем был ее муж – мещанин Федот Лукьянович Савинов.
Из ревизских сказок напрашивается не однозначный, но наиболее вероятный вывод, что главы всех семейств Челпановых из Верхоленского острога 1763 года – и казаков, и разночинцев – были потомками Якова Челпанова, рожденного не позднее самого начала 1680-х годов. А уж происхождение этого моего, при верности такой версии, восьмижды прадеда и регион, откуда он пришел в Верхоленск, – пока не установлены.
Надо отметить, что, согласно исповедной росписи 1843 года, находящаяся и поныне в четырех километрах от Верхоленска на левом берегу реки Куленги деревня Челпанова приютила и Челпановых, и Пермяковых, и Савиновых, и Шергиных, и крестьянствующие верхоленские семьи под другими фамилиями472.
Чемякины
Две мои семижды прабабушки были до своего венчания Чемякиными. Старшая – Параскева (Прасковья) Ефремовна – появилась на свет в 1700 году и вышла замуж за Никона Михайловича Черкашенина. Прожила она целых восемьдесят два года. Младшая ее на три года Агафия Ивановна стала женой Марка Андреевича Усова. Семьи их мужей, да и семьи самих Чемякиных – все были из бирюльских пашенных крестьян. И отцы моих прародительниц оказались друг другу самыми близкими родственниками: Ефрем – сыном Ивана, отчего младшая по возрасту Агафия приходилась старшей Параскеве тетей.
Согласно архивным документам по Бирюльской слободе 1699–1709 годов, Иван Миронович Чемякин был «поверстан в пашню вместо умершево пашенного крестьянина Ипатка Лаврентиева» и состоял он на ней вместе с сыном Ефремом473. А из ревизских сказок видно, что Иван Миронович умер еще до первой ревизии, его сын Ефрем – в период между 1722 и 1744 годами, в тот же период были отданы в рекруты Андрей и Антон Чемякины, а продолжили бирюльскую династию Чемякиных братья Павел и Гаврила, рожденные около 1691 и 1707 годов (наверняка они – сыновья Ивана Мироновича). Еще два Чемякина – Прокопий с племянником Михаилом – названы как определенные в 1724 году в посадские Верхоленского острога, но в его сказки третьей ревизии ни они, ни их сыновья не попали, и судьба этих потомков Ивана Мироновича Чемякина осталась неизвестной474. Понятно, что отец крестьянина Ивана Мироновича Чемякина по имени Мирон – по одной линии мой девятижды, по другой – десятижды прадед.
Черкашенины, они же – Черкашины. Однофамильная история
В семье Герасима Еремеевича Черкашенина в 1709 году родилась моя семижды прабабушка Дарья, вышедшая замуж за верхоленского разночинца Ивана Васильевича Главинского. Зная, что у Ивана Главинского была падчерица Ирина, это наверняка оказалось второе замужество Дарьи Герасимовны. Умерла она в 1783 году. А в 1826 году появилась на свет и в 1869 году его покинула моя трижды прабабушка Матрона. Она в 1844 году стала женой исетского крестьянина Федора Дмитриевича Скорнякова, а затем – матерью Софии, от которой рожден вне брака мой прадед Иван Иванович Скорняков. Отцом Матроны был исетский крестьянин Кондратий Ильич Черкашенин.
Несмотря на идентичность фамилий, Дарья и Матрона – не близкие родственницы и вообще, как и многие верхнеленские Черкашенины, не родственницы между собой непосредственно по линии Черкашениных. Эта фамилия – здесь единственная, носителями которой стали «скопом» главы семейств по признаку их национального происхождения. Прежде же большинство из них были запорожскими казаками и совершенно точно имели иные фамилии. В Сибири же появление тех казаков объясняется тем, что они в середине второй четверти XVII века спасались от притеснения Польши и перешли на службу Московскому царю, вскоре разочаровались и пытались уйти обратно, но были пойманы. Недолго послужив стрельцами в средневолжских городах, их сослали «за измену» через Москву и Енисейск в Сибирь на пашню[559]. И многих прозвали там, как было принято на Руси вплоть до конца XVIII века называть запорожских (малороссийских) казаков, черкашенинами, или черкасами. Потом это прозвище закрепилось в единую фамилию десятков ссыльных казаков.
Но, как мне удалось установить в ходе исследования, мои предки под фамилией Черкашенины ссыльными не были, а относились они к тем попавшим в Сибирь запорожцам, которые и без приговора к ссылке получили свою новую фамилию исключительно потому, что тоже родились малороссами. И, по совпадению, в обоих случаях самыми дальними из ставших известными мне предками Черкашениными стали Яковы.



