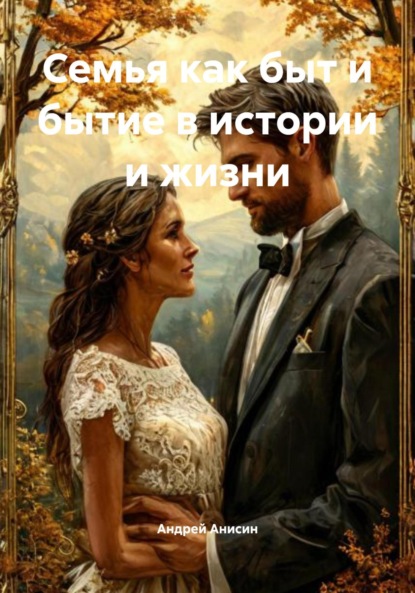
Полная версия:
Семья как быт и бытие в истории и жизни
Итак, начало человеческой семьи для науки покрыто мраком, по этому поводу уместны лишь осторожные догадки и гипотезы, которые призваны максимально полно осмыслять максимальное количество имеющихся фактов. Оценивая приведенные выше концепции в качестве таких гипотез, мы склоняемся к той линии объяснения, которой принадлежал Бронислав Малиновский. Попробуем изложить ряд соображений, которые «вопреки старой фантастической гипотезе о «промискуитете» и «групповом браке»11 убеждают в правомерности фундаментальных положений концепции Малиновского.
Во-первых, очевидным фактом является наличие уже у животных достаточно развитых форм семейной жизни. Ни о каком промискуитете по отношению к жизни высших животных говорить не приходится: половых отношений совсем никак неупорядоченных животный мир практически вообще не знает. По крайней мере, на уровне птиц и млекопитающих можно легко найти почти все формы брака, указанные Морганом. Уже у птиц очень распространена парная семья: большинство птиц продолжает свой род именно так: создавая пары на определенный период, не на всю жизнь, а временно, но строго однозначные пары. Можно обнаружить у птиц и «патриархальную» семью: достаточно зайти в любой курятник, чтобы обнаружить там «главу семьи» в окружении «жен и детей», который ревностно охраняет свой «дом, имущество и домашних» от всевозможных посягательств. Однако, конечно, «патриархальная семья» гораздо более распространена у млекопитающих, по существу любое стадо или стая представляет собой именно подобие патриархальной семьи, или порой коалицию «патриархальных семей». Многие исследователи фиксируют у животных и даже птиц случаи такого долгого парного сожительства при игнорировании иных потенциальных партнеров, что впору говорить и о примерах моногамной семьи, которые демонстрирует нам дочеловеческий мир.
И при всем этом Морган, и Энгельс вслед за Морганом, и вслед за Энгельсом вся советская «наука» ничтоже сумняшеся говорят о первобытном промискуитете, когда половые отношения не имели никаких рамок и было невозможно знать отца родившегося ребенка. У каких-нибудь бурундучков и перепелок можно точно указать отца (пока, разумеется, не распалась «парная семья»), а вот первобытный человек так активно вел «производство и воспроизводство непосредственно жизни», что любой мужчина мог с равным правом быть отцом любого новорожденного. Договариваются и до того, что пытаются укоренить в самой исходной первобытности отвратительные кощунственные ругательства, втаптывающие в грязь понятие материнства. Более того, первобытному человечеству приписываются и такие утонченные формы извращений, как кровнородственная и пуналуальная семья, совершенно незнакомые животным.
Абсурдность такого рода домыслов делается совершенно ясной в том случае, если мы непредвзято оценим половые отношения в животном мире. Тот промискуитет, о котором говорят Морган и Энгельс, животным, видимо, вовсе не знаком, ибо половая активность животных всегда строго ограничена временными рамками. В этих же рамках некий, условно говоря, «промискуитет», то есть полное отсутствие каких бы то ни было устойчивых связей, устойчивых форм полового общения наблюдается только у животных, ведущих одиночное существование (и то не у всех), все же животные, которые образуют стаи и стада, имеют вполне определенные подобия «парной», «патриархальной», и даже «моногамной» семьи. А вот длительного устойчивого сожительства братьев и сестер (или даже, как упоминают наши авторы, – родителей и детей) в качестве определяющей структуры общности, – этого у животных не сыскать. И не случайно Энгельс, хотя в первом издании книги и присоединился к взглядам Л. Моргана на кровнородственную и пуналуальную семьи, в четвертом издании все-таки значительно отошел от этих взглядов, допустив возникновение дуально-родовой системы (то есть, по существу, парной или патриархальной семьи) непосредственно из промискуитета.
В своем стремлении осуществит «смычку» человеческого и животного мира приверженцы рассматриваемой теории заходят так далеко, что достигают прямо противоположного результата: человеческий мир начинает выглядеть совершенно чужеродным по отношению к миру природы. Сам собою встает вопрос, что же должно было случиться с человеком, какая невиданная катастрофа, чтобы он против всех законов природы начал совершенно разнузданную половую жизнь?! Таким образом, именно внимательное сравнение человека и животного дает первый сильный довод против теории Моргана-Энгельса, как о том говорил и Б. Малиновский.
Во-вторых, исторический материализм в вопросе происхождения семьи исходит из гегелевского принципа единства логики и истории. Развитие должно быть таким, убежден Энгельс, потому что должно быть именно таким, должно соответствовать принципу развития от простого к сложному, от низшего к высшему, при этом желательно, чтобы это развитие происходило по одному критерию и выводилось из форм хозяйственной деятельности человека. Отсюда уже предопределен вывод: исходная точка – полное отсутствие всякой структуры, то есть промискуитет, конечная точка – максимальная упорядоченность, то есть строгая моногамия12. Ясен и путь: постепенное сокращение круга лиц, которые участвуют в интенсивном акте «производства и воспроизводства непосредственно жизни».
Сокращение это, по мысли Энгельса, является одним из аспектов развития форм собственности на средства производства (то есть отношений собственности в сфере полового акта, как производстве непосредственно жизни), хотя ведущим и определяющим является, конечно, аспект развития форм собственности на средства производства средств обеспечения жизни (то есть отношений собственности в трудовом процессе).
Поскольку этнографические исследования Моргана выявили несколько способов организации половых отношений, предполагающих различное количество участников в разной степени кровного родства, то совершенно естественно как для позитивиста Моргана, так и для гегельянца Энгельса выстроить их в последовательный ряд по мере уменьшения количества участников половых отношений и понижения степени родства людей, вступающих в эти отношения. Если у некоего племени обнаружена форма брака с большим числом участников, чем у их соседей, значит именно эта форма – более древний реликт, чем те формы, которые обычно наблюдаются на этом этнографическом материале.
Однако уместно задать вопрос, а действительно ли история точно следует логике? Действительно ли выстраиваемая Морганом и Энгельсом гладкая последовательность отражает реальный путь движения форм семьи? Действительно ли история семьи представляет собой неуклонный процесс сужения круга партнеров? На последний вопрос ответить легче всего – конечно, нет. История моногамии, даже по Моргану насчитывает не менее трех тысяч лет, и эта история полна примеров понижения общественного статуса семьи, когда упадок нравственности грозил уже самому существованию этого института. Наше время демонстрирует это с предельной выразительностью. Добрачная и внебрачная половая активность давно уже не встречает не только законодательного, но и нравственного осуждения, более того, зачастую поощряется. Находят широкое распространение так называемые «пробные браки», «гражданские браки», – то есть то, что называлось всегда «блудным сожительством», именуется теперь «браком». Интересно, к какому типу отнес бы Энгельс так называемую «шведскую семью», если бы дожил до наших дней, и какой экономический базис подвел бы под эту явно «варварскую» форму брака, существующую при социализме («шведском», правда, но уж какой есть…). При этом практически все исследователи говорят не о какой-то временной деградации семьи, а считают происходящее «…первым шагом на пути дальнейшего обобществления человека, подготовки его для будущего, более совершенного общества»13.
Так что общая тенденция и направленность изменений форм семьи в свете этого рисуется как раз обратная: от высшего к низшему, называть ли это деградацией, или повышением энтропии, или «дальнейшим обобществлением человека, подготовкой его для будущего, более совершенного общества». При взгляде на историю, на ту историю, которую мы знаем более или менее достоверно и документально, возникает предположение о том, что, если и есть хоть какая-то общая глобальная тенденция в изменении форм семьи, то эта тенденция направлена на понижение упорядоченности. А наиболее реалистично выглядит следующее понимание: в течение всей истории человечества существовали самые различные варианты семейно-брачных отношений – от полной распущенности и отсутствия брака, как такового, до строгой моногамии. Если не брать во внимание хозяйственную сторону семейной жизни, которая, несомненно, играет большую роль в построении семейного быта, и сосредоточиться именно на форме, то теоретически все формы брака существовали всегда.
По крайней мере, уже у примитивных народов «обряд вступления в брак … создает санкционированные свыше узы, превращая событие, в основе своей биологическое, в явление более глубокого содержания: союз мужчины и женщины для пожизненного партнерства в любви, ведения хозяйства, рождения и воспитания детей. Такой союз – моногамный брак – всегда существовал в человеческих сообществах; так утверждает современная антропология вопреки старой фантастической гипотезе о «промискуитете» и «групповом браке»14. На практике в определенном месте в определенное время могло актуально не присутствовать, скажем, моногамии, или, наоборот, полигамии, или могли отсутствовать (и реально отсутствовали, как правило) беспорядочные связи, кровнородственная семья, но потенциально в любом обществе в любое время все эти формы сохраняются. По крайней мере, в отличие от социального уровня, на котором формы брака, все-таки, достаточно явно зависят от общих характеристик общественного сознания и общественного бытия, в том числе, на радость Энгельсу с Марксом, и от форм хозяйственной деятельности человека, на уровне индивидуальном, на уровне частной жизни конкретных людей всегда сохраняется возможность реализации любой формы половых отношений – хоть моногамии в каменном веке, хоть полного непотребства при развитом социализме.
Высказанные только что взгляды никак не могут быть строго доказаны, они представляют собой не более чем рабочую гипотезу нашего исследования. Однако, как нам кажется, эта гипотеза вполне согласуется с имеющимися фактами, притом согласуется с ними лучше, чем гипотеза Моргана-Энгельса. Относительно же невозможности исчерпывающего доказательства той или иной теории сейчас будет высказан еще третий аргумент. А второе возражение против Моргана-Энгельса, напомним, заключается в недопустимости отождествления логики и истории, в недопустимости выдавать свою (неизбежно частную) логику за логику мира (которая вряд ли вообще укладывается в какую-либо схему).
Так вот, в-третьих, надо сказать, что не только, конечно, Морган и его последователи, но, прежде всего, именно они опираются на этнографические исследования современных примитивных культур, реконструируя по ним первобытные формы жизни. Иных источников для изучения межличностных отношений первобытных людей, действительно, и быть не может, археология не дает нам никаких материалов для такого изучения. Однако надо иметь в виду, что у современных дикарей можно найти самые разные, в том числе и высокие формы брака, – по существу все формы (и это косвенным образом подтверждает нашу гипотезу об изначальном сосуществовании – хотя бы потенциально – всех этих форм). Как же среди этих видов семьи выделить наиболее древнюю? Только навязав некую свою логику (а об этом смотри выше).
В этом вопросе мы также считаем разумным присоединиться к Брониславу Малиновскому, который «относится к прошлому первобытных обществ, поскольку это прошлое не поддается надежной проверке, как эмпирики обычно относятся к трансцендентному. В дописьменных обществах прошлое фактически недоступно исследованию. То, что оказывается доступным, есть использование ' прошлого – мифов, легенд генеалогий, ритуальных актов – в настоящем. Таков и был рецепт, предложенный Малиновским: использовать «вспоминаемое» (а может быть, и придуманное) прошлое, чтобы объяснить настоящее, но всячески избегать исторических спекуляций. Вспоминаемое прошлое есть отражение законов настоящего и должно интерпретироваться только так и не иначе»15. Всякое «домысливание» здесь есть, по существу, измысливание.
Кроме того, и это самое главное, нельзя забывать, что примитивные народности вовсе не являются «консервами», дошедшими до нас из каменного века. Эти люди жили все эти тысячелетия. Они жили не так, как европейцы, не так, как китайцы или японцы, они жили по-своему, но жили и естественным образом менялись16. При этом большинство нынешних нецивилизованных народов являются потомками древних, сравнительно развитых цивилизаций. Индейцы обеих Америк (вместе, кстати, с ирокезами, которых изучал Морган) являются родственниками и соседями, то есть кровными и духовными потомками и наследниками цивилизаций майя, инков и ацтеков, а если смотреть вглубь веков – древних американских цивилизаций: ольмекской и чавинской. «Наследники», может быть, порядком промотали свое наследство, но вычеркивать из истории этих народов целые эпохи, вменяя их «аки не бывшие» недопустимо. Учет же указанного фактора разом меняет все дело.
Если современные дикари «духовными консервами» не являются, если они как-то жили и как-то изменялись все это время, а тем более, если они, идя по своему историческому пути, прошли фазу высокого технического, хозяйственного и социально-политического развития и хранят в своей культуре следы былого величия, то они уже с трудом могут репрезентировать первобытного человека. Можно допустить, что, спускаясь с высот цивилизованности, человек возвращается к первобытным формам жизни, можно допустить, что действительно, некоторые группы людей эти первобытные формы жизни сохранили на протяжении тысячелетий в относительной неприкосновенности, но, во-первых, это всегда только предположения, а во-вторых, все-таки есть разница между современным дикарем, имеющим многотысячелетний опыт человеческой истории (уж какой-никакой опыт какой-никакой истории) и человеком перво-бытным, который такого опыта не имел.
Итак, приходится констатировать, что однозначный ответ на вопрос о происхождении и первичной форме семейной жизни человека лежит вне компетенции современной исторической науки. Однако, учитывая приведенные выше факты и соображения, можно сделать вывод, что наиболее приемлемой является та гипотеза, что все известные формы семейно-брачных и сексуальных отношений присутствуют, может быть, латентно или хотя бы потенциально, на всех стадиях человеческой истории. Это значит, что на индивидуальном уровне практически в любом обществе можно обнаружить все возможные способы организации семьи, все виды брака (вплоть до его отсутствия), все формы сексуальных отношений. Однако при этом на определенном этапе истории определенного народа в социально значимых масштабах проявляются лишь определенное ограниченное число моделей брака и семьи (как правило, в обществе утверждается в качестве обычая и нормы одна такая модель, с которой могут иногда соседствовать некие «нелегальные», но терпимые альтернативные модели брака).
На наш взгляд, и тут мы согласны с Б. Малиновским, в первобытном человеческом обществе такой преобладающей формой семьи была семья патриархальная. Такой вывод следует как из изучения форм семейной жизни в животном мире, непосредственно примыкающем к миру человеческой культуры, так и косвенно подтверждается данными археологической науки. Так В.Р. Кабо, ссылаясь на исследования Г.П. Григорьева, С.Н. Бибикова, С.П. Крашенинникова, И.Г. Шовкопляса, делает вывод, что «первичной социальной ячейкой этой эпохи (поздний палеолит – А.А., С.А.) была парная семья; общины состояли из 5-10 парных семей»17.
Естественнее всего считать ранние человеческие сообщества основанными именно на патриархальной – впрочем, может быть, матриархальной – семье. Важным здесь является не порядок счета родства – «по маме» или «по папе», а структурно-функциональный состав этой семьи: родители, их дети, возможно, и внуки, а также, возможно, некоторые «прибившиеся» боковые родственники. Вполне возможно допустить в качестве базы такой семьи моногамную пару. Впрочем, наверняка можно говорить и о распространенности полигамии: во-первых, о ней много древних свидетельств и, во-вторых, она в большей степени, чем полиандрия, объяснима естественными причинами: если в обществе и возникает дисбаланс полов, то, как правило, в сторону перевеса женщин и нехватки мужчин. Если же обсуждать возможность широкого распространения различных вариантов группового брака, то надо сказать, что вряд ли такое сообщество (считая детей) могло бы ограничиться группой в 15 человек.
Мыслить в качестве главы первобытной семьи женщину в принципе возможно, но вряд ли уместно. Исчисление рода по женской линии, подобно племенам Океании и индейцев Северной Америки, знали в свое время и семиты, и арийцы, и славяне, и германцы, и прочие народы, следы чего сохранились в народном эпосе, в памятниках древней письменности и права, однако речь идет именно о матрилинейности, но не о матриархате. Причем причины матрилинейного рода вполне можно найти, вовсе и не предполагая первобытного промискуитета, когда известна только мать, но не отец.
Дело в том, что, как показывает тот же Бронислав Малиновский на примере изучаемых им жителей Тробианских островов, а также ссылаясь на исследования коллег, люди примитивных культур очень часто только смутно осознают связь полового акта и зачатия18. Точнее, роль половой жизни сводится ими только к «распечатыванию» женщины, которая вследствие этого делается способной к тому, чтобы «балома», дух предка, вложил в нее «ваивайа», духовный зародыш ребенка. «Поэтому влагалище женщины, часто вступающей в половую связь, будет более открытым, и ребенку-духу легче войти в него. Та же женщина, которая остается совершенно целомудренной, будет иметь намного меньше шансов забеременеть. Но совокупление совсем не обязательно, оно лишь механически способствует. Вместо него может быть использован любой другой способ расширения прохода, и если балома пожелает вложить ваивайа или таковой сам захочет войти внутрь, то женщина забеременеет»19. Причем искренность этого представления подтверждается тем, что муж, отсутствовавший год или два нисколько не удивляется тому, что у его жены родился ребенок, радуется ему как своему, то есть вовсе не видит причин в чем-то упрекать жену и сомневаться в своем отцовском праве: мужчина ведь в зачатии не участвует.
Это означает, что в понимании этих племен просто отсутствует телесное родство мужчин с детьми. Отсчет родства по мужской линии невозможен, но не потому что любой мужчина может считаться причиной рождения ребенка, а потому что никто из мужчин, по их мнению, напрямую таковой причиной не является. Тем не менее, Малиновский описывает у тробианцев вполне моногамную семью (с большой, правда терпимостью к добрачным связям) и отмечает очень тесную связь отца с детьми. Только эта связь имеет не кровно-телесную подоплеку, а чисто духовную, нравственную основу в супружеском единстве отца и матери. «Таким образом, именно тесная связь между мужем и женой, а не представление – каким бы смутным и далеким от реальности оно ни было – о физическом отцовстве, оправдывает в глазах туземцев все то, что отец делает для своих детей»20.
В историческом же материализме утверждение первичного главенства женщины в первобытной общности базируется как раз на предположении первобытного промискуитета, как и на том, что женский труд играл тогда более важную для существования этой общности роль, чем мужской. Однако, во-первых, сама роль производственного фактора в жизни человека марксизмом сильно преувеличена, а во-вторых, трезвое исследование ранней истории человечества показывает, что женский труд все-таки никогда не мог играть определяющей роли в жизни первобытного общества.
Если даже предположить, что охота (основное занятие мужчин) была когда-то менее производительным занятием, чем собирательство (удел женщин), что уже крайне сомнительно, то тогда совершенно неясно, что же заставляло мужчин все-таки заниматься этим бесперспективным делом? Почему бы им по всем законам экономики не переключиться на более прибыльное собирательство? Можно, конечно, предположить, что женщинам почему-то лучше удавалось собирательство, и они вытеснили мужчин из этой сферы деятельности… Но предположение конкурентного производства в доисторическом человечестве – это уже совершенная нелепость. Кроме того, не только лучшие охотники и рыбаки, но и заядлые грибники и ягодники, и профессиональные бортники испокон веков были мужчины. Скорее можно сказать, что это они вытесняют женщин из сферы собирательства, точнее – освобождают их от этой работы, как только к этому появляется возможность. Обязанность труда и основная тяжесть обеспечения семьи всегда лежала на мужчинах, у женщин есть не менее важное дело, делать которое способны только они – рождение и воспитание детей.
Таким образом, мы предполагаем в качестве исходного пункта истории семьи различные вариации патриархальной структуры, как формы существования родового строя общества. Во главе семьи находится мужчина, имеющий под своей властью одну или несколько жен, детей, рожденных от них, и, возможно, других более далеких родственников.
На наш взгляд, этот исходный архетип семейной жизни сохраняет свою силу даже в том случае, когда реально распространенные в данном обществе формы семейно-брачных отношений имеют в большей или меньшей степени отходят от него. Некоторый незначительный отход от архетипа вполне естественен, а сильный уход от него случается крайне редко. Но в любом случае архетип в буквальном переводе с греческого имеет смысл первообраза, первоотпечатка, образца-оригинала, с которого делаются копии. Патриархальная семья, описанная выше, является таким первообразцом для человеческой семьи как таковой. Причем наиболее чистым вариантом этого архетипа является семья моногамная. Даже в случае многоженства за внешней формой «одновременного обладания» в отношениях супругов можно все-таки разглядеть «тайну двух», которые делаются «единой плотью».
Брак в любом случае есть союз мужчины и женщины, скрепленный обещанием взаимной верности, в котором достигается глубокое взаимопроникновение и единство жизни. Этот союз, по крайней мере, в момент заключения, мыслится как вечный и нерушимый, притом устанавливающий совершенно исключительные отношения внутри пары в том смысле, что внутри этих отношений нет места для третьего. В подтверждение высказанной мысли мы приведем суждения мыслителя весьма далекого от отвлеченной мечтательности и произвольных измышлений: «Брак есть по существу моногамия»21, «брак в себе следует считать нерасторжимым»22. Только так и можно мыслить брак в полноте его внутреннего смысла и по существу.
Семья же есть то сообщество людей, которое складывается вокруг брака, сообщество, связанное кровнородственными связями и имеющее эти связи основой выстраивания отношений. Таковы, на наш взгляд, архетипические черты брака и семьи, и разнообразные отступления от этого архетипа могут его замутнять, но не могут его отменить.
§ 3 Доисторическая семья как непосредственная жизнь рода
Как известно, одним из решительных рубежей в истории человечества является переход от палеолита к неолиту. Это событие уже традиционно именуется «неолитической революцией». Действительно, перемены, произошедшие на этом этапе, вряд ли можно сопоставить по масштабу с какими-либо иными событиями и революциями в человеческой истории, кроме, может быть, изобретения письменности и государства.
Суть неолитической революции состоит в коренном изменении всего строя жизни человека, и в первую очередь речь идет о переходе от кочевого образа жизни к оседлому. На протяжении тысячелетий, предшествовавших этому, человек имел стоянки, но не постоянные поселения. «За исключением пещер мы ничего не знаем о других жилищах человека четвертичной эпохи; первые признаки хижин, построенных на открытом воздухе, появляются лишь с мезолитической индустрией»23, – пишет один из основоположников современной археологической науки. Со времени написания им этих строк были обнаружены следы и более древних жилищ на открытом воздухе, однако очевидно, что речь идет именно о стоянках, а не о домах.
Порою эти «походные лагеря» были очень долговременными: кострища со слоем золы до полутора метров глубиной – это для первобытных стоянок обычное дело, но это были именно временные пристанища, а не дом. В некотором смысле такая жизнь напоминает гнездовья животных, люди живут в них безо всякой внутренней духовной связи с жильем, они готовы в любой момент покинуть это место и забыть его. И действительно, люди непрерывно, всю жизнь бросали одни места и обустраивали новые, и снова с легким сердцем оставляли обустроенное и уходили на новые места. Мы отдаем себе отчет в том, что реконструкция чувств и переживаний древнего человека – очень скользкая стезя, однако, по всей видимости, дело обстояло именно так. Палеолитический человек, судя по археологическим данным, существует в постоянной смене стоянок, создаваемых в походном стиле, даже если на одном месте жили долго, это был не дом, а «лагерь беженцев».



