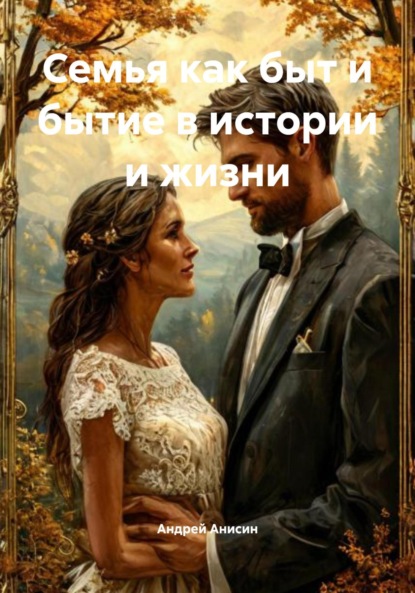
Полная версия:
Семья как быт и бытие в истории и жизни
Точно так же, как в свое время синкретизм родовой жизни дифференцировался, породив внутренне сложную социальную структуру, современный мир демонстрирует процесс внутренней дифференциации «дома», как формы существования первичного лона человеческого бытия. «Дом» в этом качестве распадается и прекращает свое существование, давая, может быть, начало чему-то совсем иному.
Пожалуй, именно XX век бурной урбанизацией и повышением социальной мобильности положил конец потомственному, родовому дому. Даже уже в прошлом поколении (если не в двух) дом как родовое гнездо, дом, ведущий свое существование от дедов, имеющий некий сложившийся в поколениях уклад жизни, дом, образующий своими стенами, двором, закоулками, своими запахами и звуками некую малую и предельно родную родину, – такой дом является уже реликтом. Концепт «родительского дома» остался весьма значимым для современных людей, сохраняется понимание, что это «начало начал», но теперь это уже «в жизни моей надежный причал». То есть человек уже там не живет, он от этого причала ушел в свободное плаванье. И хотя «так прекрасно возвращаться под крышу дома своего», но эти возвращения всегда имеют характер отдыха, «каникул» от жизни, а сама жизнь протекает не на этом «причале», а в бурном море жизни.
В некотором смысле современность потеряла Дом, выпала из этого родового гнезда. Современные люди по большей части живут не в домах, а в квартирах, по крайней мере, те люди, которые, действительно, живут «по-современному». Но даже и те, кто сегодня имеет собственный дом – сельскую ли «избушку», или «новорусский» особняк, – имеют его как личную собственность, а не как родовое достояние. Как правило, это не родительский дом и не дом, который будет оставлен детям, не тот дом, в котором в одну расширенную семью объединены хотя бы три поколения хозяев, парочка «бедных родственников» и прислуга, которая еще деду служила и отца нянчила, а теперь в воспитании детей играет немаловажную роль.
Современные люди, как правило, стремятся иметь дом, но даже для тех, кому это удается, дом не делается осью бытия и связью поколений, он не становится тем местом, откуда бытие человека прорастает, откуда оно наливается силой. Семенем человеческого бытия дом в современном мире уже практически не может быть. Точнее сказать, былой патриархальный «дом» в современном мире превратился в дом семейный, и главный акцент переместился с «дома» на семью, называемую «нуклеарной» – родители и дети. Семья эта чаще всего имеет, конечно, дом – и в материальном смысле жилища, и в духовном смысле, как некий домашний уклад и связи с родными людьми, однако, ни эти связи с родственниками и знакомыми, ни, тем более, жилище не образуют уже для человека главной оси его бытия. И даже нуклеарная, супружеская семья переживает в настоящее время кризис, отмечаемый всеми исследователями.
Было бы не совсем верно сделать отсюда тот вывод, что, если современный человек «потерял дом», «выпал из гнезда», то он, следовательно, стал неким странником в мире, не имеющем пристанища. Это верно только отчасти. Феномен странничества предполагает свободу по отношению к этому миру, вследствие укорененности в мире ином. Странник не имеет своего дома среди человеческих домов, именно потому что его дом гораздо более велик и широк. Взгляд странника спокоен, потому что в некотором смысле он везде – у себя дома, а точнее – на пути к своему истинному дому. Странничество рождается из обретения высшего и вечного дома, это обретение дает и мудрое спокойствие духа, и готовность сознательно отказаться от земного дома.
Современный человек от мира вовсе не свободен, как раз наоборот. Потеря дома и утрата семьи означает для него утрату последнего островка в мире, где он мог быть свободен, мог быть самим собой. Утратив дом и семью в их глубоком метафизическом смысле, человек оказывается целиком, без остатка, погруженным в стихию социального ангажемента с непрерывной сменой ролей и масок, где уже не остается места и времени побыть самим собой – наедине ли с самим собой, или наедине с тем человеком, который образует с тобой единство жизни и единство судьбы.
Потому так остро встает для современного человечества тема семьи – единственно возможного для современного человека «первичного лона бытия». Семья, основанная на супружестве, в качестве такого лона гораздо менее устойчива, чем «дом» или, тем более, «род». Эта неустойчивость представляет собой очевидную опасность, но, в то же время, такая семья открывает возможность и для наибольшей духовной глубины.
Теперь нам предстоит рассмотреть, каким образом происходило историческое формирование этих онтологически значимых культурных форм. Каким образом родовой быт оказался переработанным в феномен дома, каким образом вокруг этого нового центра индивидуального и общественного бытия, вокруг OIKOS'a («экоса», произнося по-новогречески) складывается и ЭКО-номика, и ЭКО-логия человека.
§ 2 Начало семьи в истории
Приступая к рассмотрению истории семьи и брака, мы сразу же оказываемся в весьма непростом положении. Начинать историческое изложение необходимо ab ovo, с тех первичных, исходных форм семейно-брачных отношений, которые человечество имело в самом начале своей истории. Затруднение с освещением этой первичной истории человечества коренится в том, что наука не располагает, да, видимо, и не будет никогда располагать достоверными фактами об этой истории. Появление на определенном этапе жизни человечества рисунка, а затем письменности впервые дает надежную почву для научного анализа. И, главным образом, о возможности научного исследования можно говорить уже по отношению к письменному человечеству, поскольку рисунок дает лишь косвенную информацию о жизни человека той эпохи, свидетельствуя, например, о высочайшем уровне развития художественных способностей уже в эпоху верхнего палеолита.
Кроме того, археологические данные о раннем человечестве (каменного века и ранее) относятся в первую очередь к религиозной жизни: погребальный ритуал, данный в захоронениях, священные изображения в замурованных пещерах верхнего палеолита, культовые фигурки, сооружения мегалитической культуры и т.д. По этим находкам можно судить об уровне технического развития человека, иногда и о способах добывания пропитания, но нет никакой возможности сделать выводы ни о степени развитости языка, ни о характере музыкальной культуры тогдашнего человечества, ни о формах взаимоотношений людей в коллективе. Единственные данные, которые археология дает для построения предположений о характере коллективной жизни, это вывод о примерной численности первобытных коллективов: от 10 до 15 человек. Есть все основания приписывать этому коллективу некую систему внутренних кровнородственных связей и рассматривать, таким образом, его как семейную группу.
Об этом же говорят и этнографические данные. «Элементарной клеткой общественной структуры у тасманийцев (как пишет автор несколько выше, «тасманийцы, быть может, единственное общество, сохранившееся к началу европейской колонизации на стадии развития, соответствующей позднему палеолиту»5 – А.А., С.А.), как и у других охотников и собирателей в эпоху, доступную этнографическим наблюдениям, была семья»6. Какой же была эта изначальная семья?
Концепция, изложенная Ф. Энгельсом, в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (впервые опубликована в 1884 г.), стала основой марксистского решения этой проблемы. Благодаря ей в советской литературе утвердилось мнение о том, что вопрос о первичной форме семьи и о промежуточных стадиях ее эволюции до современных форм брака принципиально решен уже раз и навсегда. В западной литературе такое мнение – не столь тотальное, но достаточно распространенное – утвердилось благодаря непосредственному предшественнику Энгельса Льюису Моргану (1818 – 1881) и его книге «Древнее общество». Так, например, Питирим Сорокин именно под впечатлением работ Л. Моргана, Дж. Леббока, Г. Спенсера и М. Ковалевского пишет в 1911 году: «…вопрос о первобытной форме брака и главных ступенях его развития в настоящее время может считаться вопросом почти уже решенным в науке»7. Мы поэтому рассмотрим, прежде всего, концепцию Моргана, развитую и дополненную Энгельсом.
Исходным для Моргана было утверждение, что первобытное общество в своей основе было родовым. Этот тип организации он резко противопоставляет современному «политическому» или, говоря языком Энгельса, классовому обществу, то есть государственному способу организации общественной жизни. Для Моргана это два качественно отличных друг от друга типа социальной организации. Родовые объединения, где бы они географически ни были расположены, оказываются идентичными по структуре и принципам действия, вместе с тем они трансформируются от низших к высшим формам в соответствии с последовательным развитием людей. Итак, что же за тип организации общества описывает Морган?
Род – это совокупность родственников, происходящих от одного общего предка, отличающихся особым тотемом и связанных узами крови. Действительно, родовая организация явление универсальное, эту стадию, так или иначе, прошло все человечество. Род, по мысли Моргана, прошел последовательные стадии развития. Два процесса он выделяет особо и считает их определяющими для всего исторического развития человечества на раннем этапе. Во-первых, отсчет происхождения и родства, первоначально осуществляемый по женской линии, переходит постепенно к мужской, во-вторых, наследование имущества умершего члена рода развивается от передачи его сначала в безличную собственность рода, далее – кровным родственникам умершего, восходящим к общему с ним предку по мужской линии, и, в конце концов, – детям скончавшегося.
Именно эта привязка зарождения и развития семейных отношений к отношениям собственности и привлекла к работам Моргана внимание сначала К. Маркса, а затем и Ф. Энгельса. Они (еще в «Немецкой идеологии»), декларируя свое «материалистическое понимание истории», выделяли в качестве фундаментальных оснований и принципов осмысления человеческой истории половой акт и трудовой процесс. Притом, учитывая экстремальный характер человеческого существования на заре истории, а значит и резко выраженную «первую потребность действительных индивидов в производстве жизни», первобытное общество должно было демонстрировать, по мысли основоположников исторического материализма, максимально интенсивный половой акт и максимально интенсивное производство предметов потребления, а также производство средств производства предметов потребления и производство средств производства средств производства предметов потребления и т.д. Таким образом, формируется представление о жизни первобытной общины как о непрерывном, на износ, труде, притом, на фоне максимально интенсивного полового акта, то есть, выражаясь научно, промискуитета.
Как уже было отмечено, археологические данные не позволяют с точностью реконструировать типы межличностных отношений внутри первобытной общности, но уж совершенно точно можно сказать, что, вопреки историческому материализму, первобытный человек вовсе не «горел на работе», что огромную часть своего времени он отдавал совершенно непрактичному и непроизводительному труду. Росписям пещер, например, где на один рисунок уходило по подсчетам современных ученых около полугода, а в каждой пещере таких картин может быть не один десяток, и это значит – несколько лет упорных трудов, и все это только затем, чтобы, замуровав вход в пещеру, больше в это святилище никогда не войти.
Реальные археологические находки утверждают в мысли, что древний человек, действительно, вел очень напряженную жизнь, но только главный акцент этого напряжения приходился вовсе не на добывание пищи. В свете фиаско «трудовой теории» не столь бесспорными представляются и предположения Моргана-Энгельса о семейной истории человечества. Однако не стоит пренебрегать и зернами истины, которые, несомненно, содержатся в данной теории.
Итак, по Моргану, род, являясь древнейшей социальной организацией, основанной на родстве, не вобрал в себя всю совокупность потомков одного общего предка, притом первоначально родственные узы определялись происхождением от общей матери. Собственно, первичное сообщество объединяло всех без исключения лиц, ведших свое происхождение от одной потенциальной праматери по женской линии, и этот статус члена рода закреплялся наличием общеродового имени. Рассматриваемое сообщество включало праматерь с ее детьми, детей ее дочерей и детей ее женских потомков по женской линии до бесконечности. В то время как дети ее сыновей и дети ее мужских потомков по мужской линии принадлежат к родам своих матерей. В пределах собственного рода брак был запрещен. А потому естественно предполагалось сосуществование минимум двух родов (реально, видимо, взаимодействовало большее их количество): мужчины и женщины одного рода вступали в брак соответственно с женщинами и мужчинами другого рода, а дети оставались в родах своих матерей. Брак заключался в соответствии с правилами экзогамии, и брачные союзы, таким образом, возникли не как отношения между индивидами, а как отношения между коллективами, родами.
Такова исходная стадия развития человечества, которую Морган именует «дикостью», и от которой прослеживает далее последовательное развитие человеческого общества к «варварству» и, наконец, – к «цивилизации». Одним из главных критериев этого движения является изменение форм семьи. По мнению Моргана, «идея семьи» эволюционировала, проходя ряд последовательных стадий, причем моногамия была последней формой в этом ряду. Ей предшествовали более древние формы, господствовавшие в течение всего периода «дикости», а также в древнейшем и среднем периоде «варварства». Каждая из этих форм семейно-брачных отношений соответствует определенному уровню развития человеческой природы и общественной жизни, и все они выстраиваются в прогрессивную цепочку. Этнолог различал пять последовательных этапов эволюции семьи, каждой из которых соответствовал свой порядок брака. Перечислим эти формы:
1. Кровнородственная семья основывалась на групповом браке между братьями и сестрами, родными, побочными и сводными.
2. Пуналуалъная семья опиралась на групповой брак нескольких сестер, родных и сводных, с несколькими мужьями, причем общие мужья каждой из них необязательно были в родстве друг с другом; возможен и другой, «зеркальный» вариант, когда в основе лежал групповой брак нескольких братьев, родных или сводных, с общими женами, которые не были в обязательном порядке в родстве друг с другом, хотя такое и не исключалось. Иначе говоря, группа мужчин совместно состояла в браке с группой женщин. Происхождение, разумеется, ведется по женской линии, так как отцовство детей не могло быть достоверно установлено. Как пишет видный социолог семьи С.И. Голод, «Откровенно говоря, признавали реальность такой семьи мало кто даже из числа последовательных эволюционистов»8.
3. Парная семья базируется на браке отдельных пар, но без исключительного сожительства. Продолжительность союза зависела от доброй воли сторон.
4. Патриархальная семья зиждется на браке одного мужчины с несколькими женщинами. По Моргану, эта семья принадлежала к позднейшему периоду варварства и сохранялась некоторое время и при цивилизации. Многоженство здесь важный, но не определяющий признак, подлинная характеристика патриархальной семьи – организация под властью отца большой семьи, вернее сказать – «дома» из свободных и несвободных людей для обработки земли и охраны стад домашних животных. Эта семья, характерная для ранней истории семитических народов, нашла широкое отражение в библейских текстах.
5. И, наконец, моногамная семья. Здесь в брак вступает отдельная пара раз и на всю жизнь. История моногамии на протяжении примерно трех тысячелетий обнаруживает постепенное, но неуклонное ее усовершенствование, и прогресс ее, по мысли Моргана, еще далеко не закончен.
Представленный ряд семейных отношений, по убеждению Моргана, не отделен друг от друга резко очерченными границами: первая форма переходит во вторую, вторая – в третью, третья – в пятую, в общем-то, незаметно.
Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» немного добавляет к нарисованной выше картине. По существу, эта книга лишь подводит идейную базу под этнографию Моргана: «Определяющим моментом в истории является, в конечном счете, производство и воспроизводство непосредственно жизни». Дикости и у Моргана, и у Энгельса, соответствует групповой брак, варварству – парный, цивилизации – моногамия. Некоторые конкретные детали со временем корректировались, однако общая концепция при этом, разумеется, сохраняется. Изначальной точкой отсчета указывается промискуитет, то есть полная половая свобода: вместо «войны всех против всех» по Гоббсу – «случка всех со всеми» по Моргану-Энгельсу, а дальнейшая медленная трансформация семьи заключается в поэтапном сужении круга лиц обоего пола, имевших право на взаимные сексуальные связи. Сужение это происходит по мысли Энгельса, конечно, под влиянием хозяйственно-экономических факторов, которые воздействуют на семейный уклад человечества как прямо, так и опосредованно.
Справедливости ради надо отметить, что взгляды, провозглашаемые Морганом и Энгельсом, берут свой исток в работах просветителей и материалистов XVIII века. Благодаря царившей тогда в России моде на все западное, французское особенно, доходившей, по позднему выражению А.С. Хомякова до «комической восторженности», эти взгляды были синхронно восприняты и отечественной мыслью.
Так, например, С.Е. Десницкий определенно уверен, что «первая степень смертных заключается в тесных натуры пределах, и первоначальное народов гражданство есть пустыня общая со зверьми; сих ловитвою и былием саморождаемым питается дикий пустынножительный гражданин, вертеп его дом, и одеяние нешвенное из кожи зверския; наг он из утробы матерния исходит плотию, и при первом появлении во свет он не меньше прочих животных и разумом обнажен»9. И, соответственно этому, «В сем состоянии, когда все нужное ко продолжению жизни снискивается крепостию, трудом и не меньше как исторжением насильственным у природы, жена по слабости своего сложения мужу не токмо не может быть помощницею, но паче обременением, а рожденные дети еще большим ему бывают отягчением; и если жена для слабости своея не может быть тогда полезною мужу в понесении тяжести житейския, то она и того меньше может прельщать его неимением дарований внутренних и прелестей наружных. Ибо какой красоте можно быть на лице того человека, который в средине льдов и в снегах северных живет погребен, или который в знойных пределах открытый под солнцем и иссохший скитается по степям. Сверх сих неудобств и самое обращение обоего пола у таких народов, незапрещенное и незазорное со всяким, натурально рождает холодность и отвращение от такого неразлучного общежития. Сходственно с сими примечаниями, мы не находим в сем первоначальном состоянии народов никакого порядочного супружества и ниже имени оного. Смешение у них обоего пола невозбранное есть вместо супружества, и жены у таких мужей суть вместо рабынь, над коими они живота и смерти власть имеют»10 (выделения наши – А.А., С.А.).
Для сравнения сделаем небольшой обзор воззрений английского ученого Бронислава Малиновского (1884 – 1942), который был непримиримым оппонентом эволюционизма. Опираясь на сведения, полученные в результате собственных продолжительных «включенного» наблюдений примитивных народов, он отрицал существование на заре человеческой истории промискуитета и любых форм группового брака; отстаивал патриархальную семью как колыбель культуры, базовую единицу простого общества.
Малиновский делает акцент на радикальном отличии уже даже природной человеческой коллективности от животной стадности. Животные объединяются в более или менее многочисленные группы для решения жизненных проблем своего существования под влиянием врожденных форм «стадности»: если бы «инстинктом коллективности» не обладало ни одно животное, то человек, разумеется, и не мог бы эту коллективность унаследовать. Действительно, формы коллективного поведения животных достаточно хорошо известны, однако человек способен, с одной стороны, беспредельно реализовать свой потенциал к кооперированию, с другой – в не меньшей степени успешно действовать в одиночку. В любой сфере деятельности можно найти и тот, и другой способ решения проблем: сбор провизии, рыбная ловля, сельское хозяйство, осуществляются в равной мере часто и успешно либо в составе группы, либо в одиночку. В сфере продолжения рода человек также в состоянии выработать, наряду с коллективными формами сексуального соревнования и групповой свободой, в то же время и строго индивидуальные формы социального воспроизводства. Коллективная забота о потомстве, которая встречается в животном мире, начиная минимум с насекомых, не имеет, по заверению Малиновского, параллели в человеческих обществах, здесь индивидуальные родители заботятся об индивидуальных детях.
Основа и суть культуры, по Малиновскому, заключается в глубокой модификации врожденных природных свойств. В ходе социогенеза большинство инстинктов исчезают, замещаясь пластичными, но направленными тенденциями, которые и превращаются, в конечном счете, в культурные реакции. Это значит, что ни один тип человеческой организации не может быть прослежен до «коллективистских тенденций» животного мира. Семья, по-видимому, единственная социальная группа, обнаруживающая в своей форме прямую преемственность с формами жизни животных.
Можно говорить, конечно, только о некоем единстве формы: родители и дети, постоянство материнской связи, отношения отца к своим отпрыскам. Содержательно эта форма в человеческом мире существенно другая, иной смысл получает здесь единство рода, иную роль играет и разделение полов, но определенное формальное единство явно присутствует. «Семейная жизнь» млекопитающих никогда не завершается с рождением потомства. Длительное созревание детеныша требует достаточно продолжительной заботы и обучения со стороны обоих родителей. Однако ни у одного вида животных связь не растягивается на всю жизнь. Только у людей обнаруживается качественно новый уровень связи поколений. Кроме естественной заботы, диктующейся природой, вступает в силу необходимость усвоения культурных ценностей. Начать с того, что человек должен хотя бы просто обучать своих детей навыкам ручной работы и знаниям в искусстве и ремеслах. Но, кроме того, еще масса культурно значимой информации передается помимо сознательных усилий: так происходит усвоение как раз наиболее фундаментальных предпосылок человеческого бытия – прежде всего, вхождение в сферу языка и мышления, вживание в мораль, нормы и уклад жизни человеческого сообщества. Реализация всех этих задач наилучшим образом осуществляется в рамках кровной связи между поколениями: старшим – хранителем информации и младшим – ее потребителем.
Семья, таким образом, представляется как очаг культурного развития и передачи традиции, особенно на низших ступенях цивилизации. Для этого института, подчеркивает Малиновский, функция сохранения и преемственности традиций столь же важна, как и продолжение рода. Если влияние семьи огромно в современном мире, то оно было несравненно большим на первоначальных ступенях, когда она являлась единственной школой человека. Для человеческой семьи существенно то, что окончание образования не воспринимается ими сигналом к расставанию. Даже после того, как взрослый человек оставляет своих родителей и обзаводится собственной семьей, его связи с предками остаются активными. Этим обусловлена исключительная роль семьи и в процессе возникновения социальной структуры.
Как отмечает Малиновский, у всех без исключения примитивных народов местная община, клан и племя организованы путем постепенного расширения семьи, они неизменно основываются на идеях ухаживания, вытекающих из местных обычаев, принципов авторитета и ранга, обусловленных первоначальными семейными связями. Именно в этом взаимодействии между всеми более широкими социальными группировками, с одной стороны, и семьей, с другой – проявляется, по наблюдению английского антрополога, фундаментальное значение последней. В «примитивных» обществах индивид строит социальные сети по модели своих отношений с отцом и матерью, братом и сестрой. В этом вопросе обнаруживается, по словам Малиновского, полная солидарность современных антропологов, социологов и психологов. Социальные отношения не могут быть редуцированы к дочеловеческой стадности, они выводятся из развития единственных связей, которые человек воспринял (но не скопировал) от своих животных предков: отношения между мужем и женою, между родителями и детьми, между братьями и сестрами – семьи. Культура, таким образом, сформировала новый тип человеческих связей – семью, институт, которому нет аналога у животных. И как раз этим фактом, по мысли Малиновского, предопределена и серьезная опасность разрушения этого института. И в древности, и теперь эта опасность дает себя знать в различных формах тенденции к инцесту и восстанию против авторитета.



